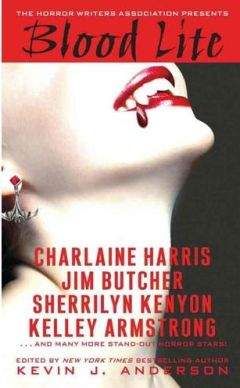Ознакомительная версия.
Михана будто кулаком в живот саданули. Ноги ослабли в коленках, брюхо предательски заурчало.
— Я знаю всё, что вы натворили, и только обещание, данное твоему отцу, удерживает меня от немедленной расправы. Оно последний твой шанс получить прощение. Я пристроил тебя к делу, но больше на твои косяки глаза закрывать не буду.
Михан содрогнулся. Сквозь портки потёк горячий шоколад.
— Медвежья болезнь одолела? — поинтересовался Щавель. — Поздновато. Раньше надо было в штаны класть, когда в узилище лезли гробницу обирать. Бегом за вещами! Жёлудь, проследи.
Михан ощутил позыв такой силы, что пулей вылетел за дверь. За ним стремительным размашистым шагом поспевал молодой лучник, глядя в оба, чтобы никто не заметил лишнего, готовясь прикрыть бывшего товарища от посторонних глаз. Обошлось. Михан заскочил в уборную, а Жёлудь с невозмутимым видом встал поодаль, карауля расхитителя древностей.
Вскорости молодой лучник заглянул в номер, держа вещмешок.
— Там нет ничего.
Щавель вышел в коридор, где дрожал у стенки новоиспечённый стажёр, переодетый в сменные портки.
— Куда девал?
— Были, — залопотал Михан. — Лежали на дне, я не проверял.
— Кому рассказывал?
— Никому.
— Филипп, — констатировал Щавель.
Троица сбежала вниз и после недолгого поиска застигла барда в дровянике подбивающим клинья к кухарке. Деятеля культуры припёрли к поленнице и приступили к экстренному потрошению.
— Ты не только мёртвых обираешь, но и у товарищей крадёшь, — сходу завиноватил барда Щавель. — Стащил поднятый в узилище Бандуриной хабар у своего подельника, тварь!
— Ты ещё тогда крысятничать пробовал, когда мы серьги делили, — припомнил Михан, который теперь из кожи лез, чтобы загладить вину перед командиром.
Глазки Филиппа забегали.
— Хабар! — огрызнулся он, но тут же сдулся. — Потырили его в этом гадском Первитино.
— Предъяви сидор к осмотру!
Пока Жёлудь ходил за мешком, припёртый к стене бард продолжал разглагольствовать.
— Кому верить, непонятно. Догадались тоже, остановиться в деревне потомственных наркоманов. Видали, у них все огороды маком засажены и поле возле ручья на сорок десятин опиатной культурой засеяно.
— Они маком торгуют для выпечки, — сказал Щавель.
— Как же, для выпечки! Ходят, чешутся. У мужиков глаза стеклянные, Герасим с Пауком полдня на кумарах. Вы же не местные, не врубаетесь ни во что. В Москву они мак продают, а не булки печь. Там из него ханку делают. Я сначала тоже не выкупил Хмурого, а потом уже заметил, что в сидоре копались, да как ему предъявить? Знал, наркоман проклятый, что можно брать, а что нельзя.
Жёлудь приволок длинный заплечный мешок с гуслями. Сидор вывернули, хабар не нашли.
— Живи пока, плесень, — вынес приговор Щавель. — Черенковать бы тебя, да больно песни складные поёшь.
Филипп смолчал, только скрипнул зубами.
Оставив барда собирать разбросанное барахло, Щавель вышел с парнями в трапезную.
— Иди к своим, — молвил он Михану. — Служи князю верой и правдой, не опозорь Тихвин.
— Да, дядя… — у парня застрял ком в горле, он сглотнул, развернулся и быстро зашагал прочь, не оглядываясь.
— Выкрутился, засранец, — проводил его Жёлудь, словно невидимую стрелу метнул в спину.
— Его под суд подвести — тебя под суд подвести, — Щавель побрёл к лестнице, сын почтительно следовал на полшага сзади. — Получается, из наших ты один остался хранителем ценностей Даздрапермы Бандуриной.
— Отчего же у меня не украли? — задумчиво спросил Жёлудь. — У Винта кто угодно мог стырить, там вообще проходной двор был.
— Твой сидор рядом с моим лежал. Возле вещей всегда кто-нибудь из наших ошивался, а Михан свой вещмешок бросил на печь, где и спал.
— Получается, Михан ещё тогда от нас отстал?
— Делай выводы, сынок.
Командир возвратился в опочивальню, где компания уже расселась по своим местам. Лузга шурудил в стволе вехобитской волыны коротким самодельным шомполом.
— Зарешали с Миханом вопросы?
— Недолго продержался, пока не обосрался, — капнул ядом Жёлудь.
— Добрый подарок ты князю сделал, — отпустил Лузга, когда командир завалился на койку.
— Добрым делом не кори, за собою посмотри, — отрезал Щавель. — Других лишних людей у меня с собой нет. Когда разделимся после Арзамаса, отправлю может быть Тавота.
Учёный раб забеспокоился.
— Если уцелеет к тому времени, — оскалился Лузга. — А то недалеко уйдёт со своей хромотой.
— У меня с каждым днём всё лучше, — заверил Тавот.
Доктор, укрывшийся с головой одеялом, подал голос.
— Я могу его посмотреть.
— Сам поправится, невелика ценность, — Щавель зацепил носком сапога каблук другого, стал тащить, поморщился, протянул ногу Тавоту. Раб, сидящий возле постели, ловко разул господина, аккуратно поставил сапоги в изножье. — Помрёт, невелика потеря.
— Только польза одна, — угодливо вставил Тавот. — Суммарный интеллект планеты — величина постоянная, а популяция человечества растёт.
— Это что получается, — прокряхтел Альберт Калужский. — Люди с каждым днём всё глупеют?
— После БП люди резко поумнели, а теперь наблюдается обратная тенденция, — учёный раб следил одновременно за собеседником и за своим господином, попутно наблюдая за перемещением по комнате Жёлудя и контролируя реакцию Лузги.
— Чудно, — сказал доктор и нырнул обратно под одеяло.
В отряде, располагавшемся ко сну, стажёр сидел напротив своего десятника.
— Надо тебя в штатную ведомость записать, Михан, — Скворец раскрыл учётную тетрадку, послюнявил шведский чернильный карандаш. — Твоё имя полностью как звучит?
— Медведь, — неохотно выдавил парень. — Медведь, а фамилия Гризли. Мама звала Мишей, но с детства Миханом погоняли.
— Как записывать?
— Записывай Миханом Грызловым. Не хочу иметь с лесом ничего общего. Теперь я житель городской.
— Далеко пойдёшь, — сказал Скворец.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,
в которой славный караван переходил границу, углублялся в низовые земли Новгородского княжества, а его руководство преследовало шкурный интерес
Двухголовый идол Гаранта и Супергаранта обозначал границу, по которой от Святой Руси отделяла себя Поганая Русь.
Ступив на другой берег Волги, Карп снял шапку и трижды сплюнул. Караванщик проследил, как с моста съезжает последняя телега, а за ней боевое охранение. После Дубны начинались ничейные земли. Сёла вдоль Великого тракта ещё платили дань светлейшему князю за порядок и стабильность, но молились в них иным богам и жизненный уклад имели свой, заточенный под гнусный ход единства и борьбы властителей Внутримкадья. Что же творилось в деревнях, отдалённых от торговой магистрали, знали только их презренные обитатели. В них махровым цветом цвели мутации, национальная терпимость, комплиментарность, трэш, угар и содомия.
Ознакомительная версия.