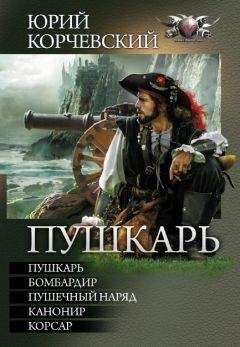– А что, по-другому ничего не получится?
Хозяин сделал ему знак молчать, вышел с работниками в сени, сунул в руки Гонзику объемистый мешок, в котором что-то явственно булькнуло, потом долго стоял в дверном проеме и смотрел на заходящее солнце. Будто никак насмотреться не мог.
Мне почему-то сделалось грустно, и я опять вспомнил пенсионера Вынько-Засунько. Как он там, интересно? В погребе отсиживается или вместе с братками обустраивает убежища на городском кладбище?
А трое добровольцев, Костя, Гонзик и старший сержант Голядкин, не спеша, солидно, как матерые строительные рабочие, закурили и молча двинулись к камню, над которым плясало яркое в наступивших сумерках искрящееся зарево.
Как порой подступают
Близко к нам,
Окружающие —
Толпа булыжников.
Ничего в них не отражается,
Лица сиры,
Не поэты нужны, не прозаики,
Нужны ювелиры!
Только корочка под рукой
Стает,
Глянет божьим глазком
Душа с камня.
А. Молокин. Ювелир[20]
Чем ближе мы подходили к Божьему Камню, тем больше я начинал сомневаться, что у нас получится что-нибудь путное. Я сам не понимал, почему вызвался на эту работу, выходило, что я, старший сержант Голядкин, несостоявшийся физик, а ныне мент кондовый, уже обросший серой милицейской шкурой по самые уши, нарушил одну из главных профессиональных заповедей – бди по чину. Совершенно неожиданно для себя я вызвался быть ответственным за ночную работу, а отвечать за что-либо я напрочь отвык. Неужели жив еще во мне тот мальчишка-студент, который до смерти боялся экзамена по механике сплошных сред, запоем читал фантастику и втайне мечтал осчастливить человечество чем-нибудь грандиозным? Жив, оказывается, вот какие дела! Студент Голядкин мог играть в божьи игры, а вот милиционер Голядкин – нет. Тем более неуютно мне было оттого, что Гонза с Костей посматривали в мою сторону уважительно, словно я сделал нечто такое, чего они сделать хотели, но не решились или не могли. Мне показалось, что даже госпожа Арней в первый раз за время нашего похода посмотрела на меня с искренним интересом, а не как на козявку какую-то, которую хоть и жалко, а все равно пусть ее, пропадает, жизнь у нее такая, козявочья. От искреннего интереса, как и от уважения, я тоже отвык. Оказывается, чье-то уважение может вызывать у тебя неловкость.
Когда мы подошли к Камню поближе, я увидел, что его поверхность, кроме неразличимых в темноте надписей, покрыта мириадами разноцветных светящихся точечек, из таких же точек, только более ярких, состояло марево над недостроенной щербатой верхушкой. И каждый каменный обломок под ногами тоже теплил в себе маленькую цветную искорку. Чудо это было, истинное чудо, скажу я вам.
– Может, тут радиация какая вредоносная? – озабоченно спросил браток, непроизвольно трогая себя за штаны. – Я ведь еще как следует не размножился, так что этот старец мог бы и предупредить, прежде чем посылать нас разные изотопы голыми руками таскать. Или хотя бы рукавичками какими снабдил. Ему-то что, он и так уже старый, да и ошивается здесь давно, адаптировался. Может быть, он от рентгенов только здоровее становится, а мы-то как?
– Нет тут никакой радиации, – спокойно сказал Константин. – Ни вредной, ни полезной, излучение я бы сразу почувствовал. Так что потомству твоему, браток Гонза, ничего не грозит. Разве что у тебя от природы дурная наследственность, так с этим уже ничего не поделаешь.
– У меня, между прочим, мама – педагог, а папа – тромбонист, – обиженно сообщил Гонза. – Так что с наследственностью все тип-топ. В смысле, в ажуре. Нормальная человеческая наследственность. Ну, бугор, чего рот разинул, давай командуй! – сбрасывая на землю мешок, обратился ко мне потомок тромбониста. – Ты ведь первый предложил сюда идти, так что, по понятиям, тебе и банковать. Чего катить, чего таскать, куда складывать…
Я присел на корточки и осторожно поднял небольшой обломок с лазоревой искоркой внутри. Где-то наверху у этого обломка было свое единственно правильное место, это место следовало непременно отыскать, и сделать это придется не кому-нибудь, а мне, старшему сержанту Голядкину. Сунув острый осколок в брючный карман, я опасливо полез по шатким танцующим под ногами лесам наверх. Гонза с Костей хотели было последовать за мной, но я жестом остановил их. Мне надо было подумать, а делать это лучше в одиночестве, да и стеснялся я, а вдруг ничего не надумаю? Неловко же получится!
На леса ярусами были уложены доски. Наверху они образовывали кривобокое кольцо-помост вокруг вершины. Когда я перебрался со щелястого помоста на неровную, словно покрытую встопорщенной каменной чешуей поверхность Божьего Камня, меня окутал веселый рой разноцветных светящихся пятен, словно я внезапно окунулся в звездное скопление. Под ногами феерически светилась щетинистая верхушка Камня. Вообще вся эта феерия здорово смахивала на дискотеку после милицейской облавы – музыку вырубили, девочек, диджеев и обкуренных посетителей забрали в участок, остальные отдыхающие разбежались кто куда, остался только зеркальный шар, подсвеченный разноцветными прожекторами, и разноцветные пятна на полу и стенках. Только в отличие от дискотеки пятна эти никуда не двигались, так, подрагивали немного в воздухе, слегка пульсировали, но оставались на своих местах словно приклеенные. Что-то это значило, и я понемногу начал догадываться – что. Я достал из кармана камушек с лазоревой искрой внутри и поискал в светящемся рое световое пятнышко такого же цвета. Таковое обнаружилось примерно в полуметре от неровной, переливающейся разными цветами поверхности Божьего Камня. Я пристроил свой камень в световое пятно, и он сам собой повис над вершиной, словно за что-то зацепился. Этого не могло быть, но тем не менее камень висел в прохладном темном воздухе, ни на что не опираясь.
«Как же так, – подумал я, – он непременно должен упасть, а вот, смотрите, не падает!»
А камень, словно услышав меня, качнулся и со стуком упал, отцепившись от лазоревого пятнышка. Все-таки чего-то я не допонял. «Не догнал», как сказал бы Гонза. И тут я вспомнил, что все осколки этой скалы могут быть скреплены только верой да молитвой. Молиться я толком никогда не умел, стало быть, мне оставалось только поверить. Уверовать. Только вот как это – поверить? Я уселся на колючую неудобную поверхность, к моему удивлению, теплую, и изо всех сил стал стараться поверить.
Я чувствовал, что вера находится где-то во мне, сияет чистым белым светом, вобравшим в себя все мыслимые и немыслимые цвета, только не знал, как его освободить, этот свет, скрытый под заскорузлой коркой сомнений, привычек и поступков. И я начал медленно, слой за слоем снимать эту корку со своей души, чтобы добраться до сверкающего ядрышка. Я сдирал грязно-коричневые чешуйки будней, жирные розовые лепестки похотей, мутно-зеленые пятна запоев и постыдные серые кляксы высохших неудач. А оно, это пятнышко, внезапно тоже проснулось, ожило и стало помогать мне, толкаясь и взламывая оболочку изнутри, словно цыпленок Феникса. И я понял, что самым могучим, самым основным человеческим инстинктом является именно вера, а не что-нибудь другое. Пусть коронованные гордыней суетные режиссеры и журналисты пытаются убедить меня и весь остальной мир в том, что в основе человека лежит нечто другое, животное, – пусть. По стараниям им и воздастся, и уйдут они из этого мира нищими, потому что ничего-то у них нет, кроме тусклого, навсегда погасшего камушка за пазухой – все, что осталось от их изначальной веры.