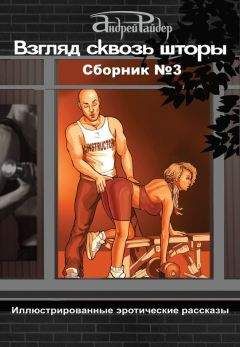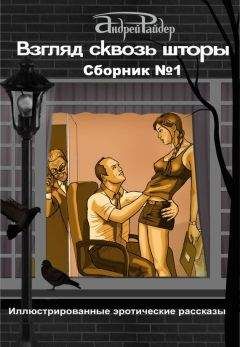— Так, это мы уже видели. На ларчик теперь смотри, только на ларчик. Вряд ли парень с ним на каторгу пошел, значит, на хранение кому-то оставил.
— Ларчик в луже крови лежит…
— Это понятно, дальше смотри.
Вынул Сёмка грамоту из ларчика, завернул в навощенную тряпицу и в ладанке себе на шею повесил. Когда спрашивали, говорил, что память об отце. Он сам к приставу пришел, в Черной Слободке еще спали все.
Судья Сёмку жалел, все допытывался, не было ли тут супружеской измены. Или, может, жена в постель его не допускала? Соседей тоже позвали, и все они в один голос сказали, что Сёмкина жена была ведьма, а он души в ней не чаял. Но ведьма не ведьма — для закона не оправдание, хотя приговор судья мягкий вынес, кнут на плети заменил и двадцать лет каторги назначил вместо бессрочной.
Олёнка каждую ночь к нему приходила, до сорочин. Не винила, жалела его. Что жизнь он не только ей, но и себе загубил, и дочке. Все оправдаться хотела — что обещал дядька его, Сёмку, сжить со свету, если она ларчик не отдаст. Сёмке и без ее оправданий в пору в петлю было лезть, он грамотку эту злосчастную едва не сжег. Если бы в холодной огонь можно было развести, сжег бы точно.
Но когда он в больнице был, после плетей отлеживался, заявилась к нему ведьма-тетка. Думала, может, что он в беспамятстве. И как прошла только? Гостинчик принесла — пирог с яблоком. Сёмка в самом деле тогда пошевелиться толком не мог, но заметил, что кто-то тесемку на шее у него развязывает, тут и открыл глаза. Пирог этот яблочный он в глотку ведьме целиком бы затолкал, если бы его не схватили за руки. Вот после этого и раздумал он жечь грамоту, а, напротив, очень ее берег.
— Это, похоже, долгая история. Погляди, там, где он с этим поляком говорит, на шее ладанка у него есть?
— Есть.
— Плохо. Очень плохо… Я, конечно, поищу поляка по имени Петр, но хоть что-то, хоть одно слово об этом месте ты можешь услышать?
— Я ничего не слышу. Не там надо искать…
Зачем она это сказала? Зачем? Чтобы этот транс был последним? Нет, рисковать жизнью дочери ради какого-то древнего манускрипта — это сумасшествие.
— Где?
Перламутровый ларчик с бурыми отпечатками рук. С пустой жестянкой внутри… Таша иногда трогала его пальцами — жжется он, как железо на морозе. Огонь и кровь. «Этим» невдомек, что она все помнит. Что может вспомнить, если до ларчика дотронется. Потому что это кровь матери, а руки отца. «Эти» не знают, как люто она их ненавидит.
Люто, в самом деле люто… Даже страшно… Дыхание учащается, сердце бьет в голову, прямо в темя, кровь приливает к лицу.
— Ну? Что ты замолчала? — «Этот» не хочет больше ждать, от нетерпения переминается с ноги на ногу, нервно щелкает пальцами.
— Мне… нехорошо… Мне надо выпить воды.
Темный человек наливает воду из графина, но невозможно выпить ни глотка — кажется, что от прикосновения его рук в стакан просочился яд.
— Она их отравила угарным газом. Это не так просто с печью, которая топится по-черному и по утрам. Она собирала угольки, который будут гореть без дыма. Ждала лета, чтобы самой ночевать на сене.
— Это неинтересно.
А может, тебе страшно, темный человек? Потому и неинтересно?
Нет, ему не страшно. Ей страшно, — а ему нет. Ей страшно от того, что она радуется чужой смерти, свершившейся мести. Нет, не мести — возмездию. Может быть, и «этого» когда-нибудь настигнет возмездие? Или… он нарочно пришел оттуда, из тех времен, чтобы довершить свое темное дело?
— Давай, ты сама сказала, что надо смотреть здесь. Вот и смотри! — он раздражен. Ему это неприятно. Но не более чем.
Поле, на котором еще нет мельницы. Дорога к усадьбе. Максимушка скачет вокруг дома на палочке, Петруша играет в пыли на дороге, Танечка спит в колыбели.
Старик в черном суконном армяке бредет из Подвязья. Нет, не бредет — очень даже бодро шагает, на посох опирается не из немочи вовсе. Что ворожейке стоит по лицу угадать судьбу? Высокая судьба, но трудная. Воевал, бунтовал, и каторгу прошел, и сквозь строй. И долгая старость у него впереди.
— Не вы ли, ясная пани, будете Наталья Семёновна? — останавливается, улыбается, опирается подбородком на высокий посох.
— А тебе-то что, добрый человек?
И надо бы на вы к нему, из благородных он небось, хоть и в простом армяке.
— Долго же я вас искал! — снова улыбается. Радуется жизни. Воле. Вспоминает что-то, гасит улыбку. — Я от отца вашего весточку принес.
Сердце ударяет один раз посильнее — вдруг жив? — но замирает сразу. Она и день, и час знает, когда отца не стало.
— Мой отец на каторге умер. Давно.
— Я его хоронил.
— Ну? Ладанку принес?
— Да. Она ее в ларчик положила. Поплакала. Ларчик в красный угол поставила.
— То есть он у тебя на виду был?
— Я не знала, что вы ищете.
— Так, так, так… — Он начинает ходить по комнате. — Стой! Пожар! Ты видела пожар! Где ларчик был в это время? Три шага вперед сделай.
— Там стояли дети и вещи лежали. Он сверху.
— Жалко будет тебя отпускать! — Он хихикает. — На самом виду, всегда — на самом виду! Теперь смотри по сторонам, на братьев и сестер. Кто из них оставил ларчик себе?
— Я больше не могу… У меня уже нет сил…
Мелок стучит по полу.
— Чуть-чуть осталось, совсем немного. Давай, давай! Шаг вправо.
Коммунальная квартира на первом этаже. Двор-колодец. Саночки на улицах, саночки… Мертвые на саночках. Черная вода в проруби. Ведра обледеневшие.
— Ларчик. Нас интересует перламутровый ларчик. Саночки нас не интересуют.
Да, «этих» тоже интересовал только ларчик. Настолько, что людские жизни рядом с ним ничего не стоили.
— Он стоит в большой комнате на серванте. Довоенный сервант, стекла… армированные, что ли? Не совсем прозрачные, не гладкие.
— Когда?
— Это… совсем недавно. Телевизор «Радуга» рядом.
— Так… Где?
— Большая коммунальная квартира на первом этаже.
— Очень точный адрес. Сейчас я достану карту, попробуй увидеть поточней.
— Я… не могу больше…
— Смотри. Внимательно смотри. Перламутровый ларчик с медными уголками.
— Вот здесь. Наверное. Точно здесь.
— Милая моя, это новостройки. Ты карту Питера никогда не видела? Там нет больших коммунальных квартир.
— Это здесь. Пожалуйста, я больше не могу, мне надо отдохнуть.
— В поезде отдохнешь. Поехали.
— Но… но я не могу, мне надо домой! Мама с ума сойдет!
— Сейчас ты позвонишь маме и скажешь, что остаешься у подруги. На два дня.
— Я не могу, у меня ребенок!