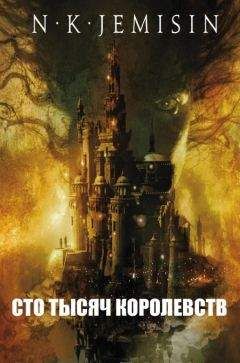— Стойте, где стоите, — раздался голос. Ньяхдох. — Я… вблизи со мной… не слишком-то безопасно. — И, уже мягче. — Но я рад, что вы решились зайти.
То был иной Ньяхдох, не тот — натянувший смертную личину, но и не обезумевший зверь из сказок леденелой зимы тоже. Нет, то был Ньяхдох-из-первой-ночи; тот, целовавший меня, Владыка Ночи; тот, единственный, кто, казалось, и в самом деле по-настоящему желал меня. Единственный, супротив кого таяла вся моя защита, вся моя оборона. Вся моя броня.
Глубокий вздох, и я попыталась сосредоточиться на этой ласковой, опустошённой тьме.
— Кирью права. Простите, пожалуйста, простите меня. Ведь это целиком и полностью моя вина, что Скаймина обрушила на вас всевозможные кары.
— Лишь чтобы наказать вас саму.
Я содрогнулась всем телом.
— И даже хуже.
Он рассмеялся мягко, еле слышно; и лёгкое дуновение пролетело над плечом. Ласковое и нежное, словно тёплая летняя ночь.
— Не для меня.
В точку.
— Я могу вам как-то… помочь?
Ветер вновь кружил рядом, на сей раз щекоча крошечные волоски на коже. Внезапно перед глазами живо предстала картинка: стоящий прямо у меня за спиной Ньяхдох, приникший так близко, что едва только не обнимая, — и дыхание его ласкает изгиб шеи.
С противоположной стороны комнаты донёсся слабый… алчный полувсхлип-полувздох; и вдруг, казалось, сам воздух запылал от нахлынувшей волны вожделения — всё вкруг меня пропитывал сильнейший, резкий аромат похоти и насилия, без всякой расцветавшей вдали нежности. О боги… Я поспешно переключила сознание, вновь полностью сосредоточившись на окружавшей меня тьме. Тьма, мрак, сумерки, — и более ничего… ох, матушка… Есть.
Казалось, это тянулось целую бесконечность, но, в конечном счёте, тот ужасающий голод поблёк, ослабев.
— Было бы лучше, — тревожно возник падший с непривычной мягкостью в голосе, — если б вы не прилагали излишних подсобляющих усилий.
— Простите…
— Вы — смертная. — Похоже, этот приговор говорил сам за себя. Я пристыжено опустила глаза. — Вам есть что спросить о вашей матери.
Да. Я глубоко вдохнула, прежде чем разразиться вопросом.
— А её собственная мать погибла от руки Декарты, верно? — спросила решительно. — Не по этой ли причине она решила рассчитаться, согласившись посодействовать вам?
— Я — подневольный раб. Ни один Арамери не решился бы положиться на меня, доверившись. Как я уже говорил вам, всё, чем она занималась на первых порах, так это задавала вопросы.
— И, в свою очередь, вы пожелали заручиться её поддержкой?
— Нет. Она по-прежнему носила кровную печать. На неё нельзя было положиться.
Непроизвольно вздёрнув руку, я дотронулась до собственного лба. Знание о сияющей там метке раз за разом само собой вымарывалось из памяти. Как и о том, вдобавок, сколь много решает это крошечный аргумент в политике Поднебесья.
— Тогда как же…
— Через Вирейна. Вернее, через его постель. Предполагаемым наследникам, как правило, рассказывают о церемонии правопреемства, но Декарта повелел скрыть подробности от дочери. Вирейн знал не многим более прочих, если он что и поведал Киннет, так примерный ход привычного ритуала. Допускаю, что ей хватило и этих крох, чтобы вычленить истину.
Да, как статься, может, так оно всё и было. Она уже усомнилась в Декарте — а сам Декарта страшился её подозрений, вероятно, подспудно ожидая худшего.
— И что? Что она сделала, стоило ей докопаться до правды?
— Заявилась к нам и осведомилась, как можно избавиться от печати, украшающей лоб. Буде только в силах вырваться из-под власти Декарты, говорила она, то согласилась бы пробудить Камень и дарованными им силами вернуть нам нашу свободу.
У меня перехватило дыхание; я застыла, да глубины души поражённая беззрассудной отвагой — и безумной яростью. Я вошла в раскрытые врата Небес, словно ведомая на убой, готовая идти на смерть, только б покарать убийц матушки; лишь счастливый случай да Энэфадех даровали мне шанс на месть. Матушка собственноручно взрастила собственное возмездие. Взрастила и вспоила ростки ненависти, изменив… предав всё, что её окружало. Свой народ, своё наследие, даже своего бога. И всё ради того, чтобы растоптать одного-единственного человека.
Скаймина была права, в сравнении с матушкой я — полнейшее ничтожество.
— Разве не вы в своё время твердили, что лишь мне одной под силу прибегнуть к Камню, чтобы разорвать узы, наложенные Итемпасом? — поинтересовалась наконец. — Ибо одна я владею душой Энэфы?
— Да. То было разъяснено и Киннет. Но поскольку благоприятная возможность сама шла к нам в руки… Мы дали ей подсказку: отречение избавило бы её от кровной печати. И ещё одно… одну цель, — твоего отца.
Что-то в груди растеклось талой лужицей. Я прикрыла глаза. Так вот ты какая, романтичная сказочка… о поистине волшебной любви моих родителей.
— Она… с самого начала договорилась выносить для вас дитя? — спросила неестественно мягким тоном. (Голос слегка отдавался в ушах, но над комнатой нависало безмолвие.) — Они оба, матушка и отец… что, выводили меня, как кролика, на продажу?
— Нет.
И мне стоит поверить ему? Как бы не так!
— Она ненавидела Декарту, — продолжил Ньяхдох, — но всё ещё была его любимым детищем. Мы скрыли от неё и наши планы, и душу Энэфы, ибо были не в праве довериться ей.
Более чем закономерно. Более чем понятно.
— Отлично, — сказала, пытаясь привести мысли к чёткому расчёту. — Вот, значит, каким макаром она повстречала моего отца, бывшего приверженцом Энэфы. Окольцевала его замужеством, как очередную ступеньку к достижению поставленной цели; не говоря уже о том, что брачные узы послужат должным поводом для изгнания из рода. А значит, и прямая дорожка избавиться от печати сигила.
— Верно. И в довершение, тем самым искренне поверив нам чистоту своих умыслов. А также заодно отчасти добившись задуманного отмщения; её отречение и последующий уход опустошили Декарту, едва не добив. Он оплакивал дочь, словно покойницу. И кажется, его страдания были ей только в радость.
Я знала, я догадывалась… понимала. Ох, как же хорошо я всё понимала.
— Но тогда… тогда Декарта не мог ни попытаться убить моего отца… наслав Гулящую Старуху, — медленно, выдавливая из себя слово за словом, произнесла я. Наконец-то эта сплошная путаница оборванных узлов сплелась единым полотном. Паутиной. — Должно быть, счёв именно отца повинным в уходе дочери. Уверив себя, что с его смертью она вернётся обратно.