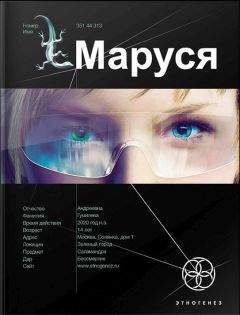Аэйт обтер рот ладонью, повозил пальцы в траве и со вздохом потянулся, подставляя теплому, влажному ветру лицо.
— Наелся? — спросил Синяка негромко.
— Спасибо, Синяка.
— Пузана благодари, — сказал Синяка и еле заметно улыбнулся.
— Это он у нас тут хозяйничает. Брат-кормилец третьей гильдии.
Пузан побагровел от смущения. Аэйт усмехнулся и тут же поморщился: болели рассеченные камнем губы.
— Почему ты один? — спросил Синяка. — Где Мела?
Аэйт вздрогнул.
— Что мучаете парня? — вступился Пузан. — Он вон еле живой, в чем только душа держится… Дали бы хоть дух перевести…
Синяка замолчал. Аэйт потрогал ссадину на левой щеке и тихонько сказал:
— Я не знаю, где сейчас Мела, Синяк. Я его оставил на берегу реки, потому что…
— Когда ты его оставлял, он был жив? — Вопрос прозвучал спокойно.
— Да…
Казалось, такой ответ полностью удовлетворил Синяку и, не задерживаясь больше на этой теме, он без перерыва перешел к следующей:
— Где Вальхейм?
Аэйт заплакал. Слезы больно разъедали ранку на щеке, и он был даже рад этому. Синяка сидел неподвижно и смотрел на него усталым взглядом.
Синяка хорошо понимал, что означают эти слезы, но не испытывал ничего, кроме странного удовлетворения. Все правильно, думал он, слушая, как тихо всхлипывает Аэйт, и не отвечая на взгляды расстроенного великана. Он надеялся еще раз увидеть капитана, но в этом ему было отказано. Неведомая сила, которая бросила его в эту мясорубку под названием «жизнь», сейчас отнимала у него одну радость за другой.
«Он одинок, устал и скоро его не будет…»
«Как я умру, Асантао?»
«Я не могу увидеть твою смерть. Я просто вижу мир без тебя».
Аэйт плакал, и Синяка завидовал ему. Наконец он вздохнул и заставил себя сказать:
— Не плачь, Аэйт. Это все уже не имеет значения.
И маленькое измученное существо прижалось к нему благодарно, и тогда Синяка провел рукой по грязным белым волосам.
— Не плачь, — повторил он.
Пузан, ворча себе под нос, прикатил бочку, в которой собирался заквасить на зиму капусту, и с плеском вылил в нее ведро горячей воды.
— Ингольв тосковал по Ахену… — сказал Аэйт. — Синяка, откуда он тебя знает? Когда я назвал твое имя, он весь побелел. Кто он такой?
— Просто человек, — сказал Синяка. И нехотя пояснил: — Когда— то он был моим командиром. Много лет назад. Когда Завоеватели подошли к городу, доблестное командование послало на смерть пятьдесят человек. Мы защищали форт, прикрывая отступление основных частей. Нас осталось тогда двое — Вальхейм и я…
— Я видел форт, — сказал Аэйт. — А это было страшно?
Синяка посмотрел на него долгим взглядом, и Аэйту показалось, что на него повеяло холодом, точно распахнулась дверь по ту сторону земного бытия.
— Не помню, — сказал, наконец, Синяка.
Аэйт поежился. Синяка заметил это и улыбнулся. От его улыбки проницательного Пузана мороз пробрал по коже. Он в сердцах плюхнул в бочку еще одно ведро воды, стараясь произвести как можно больше шума.
Аэйт спросил:
— Как Ингольв оказался в Кочующем Замке?
— А… — Синяка снова улыбнулся. — Очень просто. Торфинн спас ему жизнь. С причудами был старик…
— Да уж… — буркнул Пузан.
Синяка спросил:
— Как погиб Вальхейм?
— Его убил Косматый Бьярни, — ответил Аэйт.
Наступило долгое молчание. Потом Синяка проговорил, очень спокойно, почти равнодушно:
— Значит, Бьярни все-таки добился своего…
И неожиданно для Аэйта усмехнулся.
— Ты чего? — прошептал Аэйт. Он снова испугался, и Синяка опять погладил его по волосам.
— Не бойся, Аэйт.
— Ну вот что, — вмешался Пузан, — иди-ка сюда, конопатое чудище. Раздевайся.
Хозяйской рукой он подхватил мальчика, стянул с него грязную, окровавленную одежду и окинул тощее тело неодобрительным взором, как бы оценивая, сколько же еды предстоит вложить в это несовершенное творение Хорса, прежде чем на него можно будет смотреть без отвращения. Аэйт переминался с ноги на ногу.
— Лезь в бочку, — распорядился Пузан. — Ей все равно разбухать. Вон как рассохлась… Заодно грязь смоешь.
Бочка стояла в луже и курилась паром. Недолго думая, Пузан засунул туда голого Аэйта, и мальчик зашипел от боли, когда горячая вода коснулась ссадин и царапин. Пузан принялся энергично тереть его пучком травы.
Умытый, завернутый в одеяло, сытый, Аэйт заснул на солнце и не заметил, как его перенесли в дом и уложили на сундук. Синяка снова забрался с ногами на подоконник.
Прибирая одежду Аэйта и немытую посуду, Пузан ворчал:
— Поели бы, господин Синяка.
— Я не голоден.
— Так я и поверил! — взорвался Пузан и сердито грохнул мисками. — Еду бережете, что ли? Что ее беречь-то? Еще осень вся впереди. Вон, от вас уже одна тень осталась. Насквозь скоро будет видно.
— Спасибо, Пузан. Я просто не хочу.
— Будет вам изводиться, — сказал великан.
Синяка не ответил, и Пузан ушел к заливу — стирать и мыть посуду. Синяка забыл о нем в ту же секунду, как захлопнулась дверь. Он смотрел на спящего. Бледная детская физиономия Аэйта, распухшая от слез, в ссадинах, царапинах, меньше всего была похожа на грозный лик судьбы.
Синяка знал, конечно, что вся эта безоблачная жизнь на Пузановой сопке — только отсрочка перед тем, как принять то самое, единственное решение. А в том, что однажды он столкнется со своей судьбой вот так, напрямую, он не сомневался. Но никогда не думал, что она явится к нему в облике голодного ребенка, который доверчиво придет к нему в дом и уснет, ни о чем не подозревая.
«Будет слишком поздно, когда ты поймешь, что такое — спасти Ахен. Такие, как ты, идут по своему пути до конца».
В хибаре было совсем тихо. Еле слышно посапывал на сундуке Аэйт, и за окном плескали волны. И если прислушаться, то можно было уловить, как Пузан яростно начищает песком котел.
«Даже обреченному дается последняя надежда».
Вранье, устало подумал Синяка и слез с подоконника.
Ветер свистел над Пузановой сопкой. В окне стояла ночь. Белые ситцевые занавески, сдвинутые в сторону, налились синевой. Огонек маленькой свечки, оплывавшей на подоконнике, вздрагивал и моргал. В углу, на вытертой козьей шкуре, мирно спал Пузан.
Сидя на сундуке, напротив Синяки, Аэйт тихо, чтобы не потревожить великаньего сна, рассказывал о скальном народце, о гибели Торфинна и Кочующего Замка, о тролльше Имд и Косматом Бьярни.
Синяка слушал внимательно, не перебивая, и вертел при этом в пальцах пустую катушку из-под ниток. Иногда он через силу улыбался — в тех местах истории, которые, по мнению рассказчика, должны были показаться ему смешными. Всякий раз от этой улыбки Аэйту становилось не по себе. В поведении Синяки ему постоянно чудилась странная отрешенность, как будто все случившееся уже не имело никакого значения.