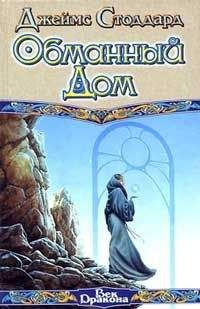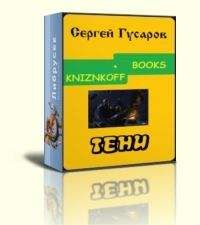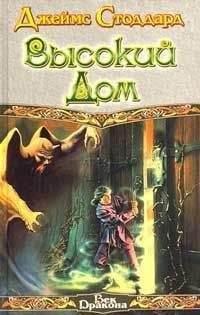– Я не могла сотворить все это, – испуганно проговорила она. – Тут слишком красиво, а во мне нет красоты.
– Как ты можешь судить об этом? О, Лизбет, да разве ты не видишь, какие у тебя чудесные глаза? Нет, ты, ты создала все это! А если бы у тебя не было сердца, ты бы ни за что не сумела этого создать.
– Я не могла, – проговорила она дрожащими губами. На глаза ее набежали слезы. – Меня держали в темноте, потому что я плохо себя вела. У меня отняли все хорошее. И если бы я была хорошая, он бы не утащил меня!
Она задрожала с головы до ног, зубы ее застучали.
– О ком ты?
– Я… – Она закрыла ладонями лицо. – Глаза у той статуи! Если это был не Картер…
Она стала задыхаться, хватать ртом воздух. Даскин сжал ее руку.
– Кто это был? Чье лицо было у статуи? Лизбет закрыла глаза.
– Я вижу Картера. Я вижу Картера! Но за его лицом прячется кто-то другой! Я не хочу смотреть!
– Ты должна понять, кто это, – решительно проговорил Даскин, хотя настроение Лизбет и пугало его. – Я здесь, с тобой. Чье это лицо?
Она взвыла по-звериному и отчаянно, хрипло вскричала:
– Папа! Это был папа! Это он отдал меня им! Он меня отдал! Почему он отдал меня? Это был папа! Это был папа!
А потом она расплакалась, разрыдалась так горько – Даскин никогда в жизни не видел, чтобы кто-то так горько плакал. Это был крик души, темная, глубочайшая тоска, рожденная одиночеством и предательством. Она бросилась в его объятия и плакала до изнеможения, а он только обнимал ее и гладил ее золотистые волосы. Но почему-то Даскин решил, что это очистительные, целительные слезы.
Выплакавшись, Лизбет смущенно отстранилась.
– Ты, наверное, презираешь меня за мою слабость.
– Я восхищаюсь тобой, – торопливо проговорил Даскин. – Я не знал более сильного человека. Тебя предал отец, но все это время ты сражалась с врагами – одна, не имея ни помощи, ни надежды на спасение, в темноте, ты сражалась с ними. И им не удалось побороть твой дух, сломить тебя.
– Но зачем он сделал это? Зачем мой отец отдал меня анархистам? Неужели я для него ничего не значила?
– Нет. Не думай так. Нам не дано знать, что побудило его к такому поступку. Моя мать тоже совершала ужасные поступки. Люди становятся дурными не сразу, а постепенно, шаг за шагом. И все же, каковы бы ни были причины его поступка и независимо от того, сделал он это под чьим-то влиянием, или его одурманили, или он просто лишился рассудка, – ты сама тут совершенно ни при чем. И ни в чем не виновата.
Потом Лизбет уснула посреди мягких игрушек и кукол, а Даскин стерег ее сон. Только здесь Даскин наконец мог рассмотреть Лизбет при свете дня, и пока она спала, он не спускал с нее глаз. Пусть ее лицо покраснело от слез – она все равно была дивно хороша собой. Растрепанные волосы обрамляли голову и плечи и отливали золотистым блеском. Дерзко вздернутый подбородок, маленькие, нежные, неулыбчивые губы… Но больше всего Даскина привлекал в Лизбет ее мятежный дух, родственный ему. Правда, в этом он сам бы себе не осмелился признаться, потому что взрывы ее эмоций пугали его, он боялся и ее ранимости, и ее могущества. Он думал о том, какой станет Лизбет, оказавшись в уютной гостиной, когда она будет сидеть и безмятежно пить чай, и ее роскошные волосы будут уложены в красивую прическу по последней моде? Неужели и тогда она останется неприрученной, дикой, останется свечой, готовой вспыхнуть, как только ее поднесут к пламени?
Проснувшись, Лизбет улыбнулась – печально и радостно одновременно.
– И правда, какая красивая комната. «Завтра это все покажется мне сном. Я не смогу поверить в то, что видела, к чему прикасалась, что снова говорила с тобой».
– Неужели ты заучила наизусть «Грозовой перевал» от корки до корки? – спросил Даскин.
– Почти всю книгу, хотя любимые места помню лучше, – ответила Лизбет и села. – Я ее перечитывала столько раз все эти годы и разыгрывала по ролям. Кроме этой книги, мне не с кем было поговорить.
– Должен признаться, что к стыду своему, я ее не читал, – сказал Даскин. – А вот Сара наверняка читала. Лизбет изумленно взглянула на него.
– Не читал? А я думала, эту книгу читали все. – Признание Даскина ее явно смутило. Помолчав, она сказала: – Это история любви.
– Судя по тому, что слышал, мне трудно в это поверить, – отозвался Даскин. – По-моему, это история мести.
– О нет! Это на самом деле история любви, потому что любовь – это предательство и боль.
– И ты веришь в это?
Лизбет смотрела на Даскина. Глаза ее вдруг растерянно забегали.
– Так меня любит Человек в Черном. Даскин покачнулся, как от удара.
– Так вы… любовники?
– Любовники? – Лизбет рассмеялась. – О нет. Мы с ним – как Кэти и Хитклифф. Он относится ко мне как к дочери. Дарит мне по двенадцать свечек. Заботится обо мне.
– И тебе хочется именно такой любви?
– Мне… Но просто другой любви я не знала.
– Когда мы вернемся в Эвенмер, ты будешь свободна и сможешь сама выбирать, как жить.
– И я смогу жить в старом доме в Иннмэн-Пике, с Сарой и графом Эгисом?
– Сара там больше не живет, но ты могла бы, как и она, жить во Внутренних Покоях. Лизбет задумалась.
– И мне можно будет держать мышку? Даскин рассмеялся:
– Мышку? Мы раздобудем тебе щенка! Глаза Лизбет озарились радостью.
– Я не видела щенков… так давно!
Они пошли дальше по залу. Куда – это было ведомо только Лизбет. Обернувшись к Даскину, она смущенно спросила:
– Если эта комната – творение моего разума… то я – ребенок? Ты так думаешь?
– С какой стати я должен так думать?
– Но ведь тут так много игрушек…
– На самом деле я думал о том, что в тебе так много неистраченной нежности. И еще я думал о том, как выглядела бы комната, которую сотворил бы я.
– Наверняка она была бы еще более чудесна, – улыбнувшись, сказала Лизбет.
– Не знаю, – покачал головой Даскин. – Получается, что несколько поколений в моем семействе по материнской линии были анархистами. Не сказались ли на мне эти родственные связи? Вдруг моя комната оказалась бы битком набитой всякой анархической мишурой? Здесь я впервые всерьез задумался о разглагольствованиях моего двоюродного братца.
– Это больно? Ну, то есть душе твоей больно от этого? Даскин вздохнул:
– Больно. Большую часть моего детства меня окружала ложь. Почти с рождения меня воспитывали как анархиста. Если бы я вырос где угодно, а не во Внутренних Покоях, я бы непременно стал анархистом. Быть может, даже стал бы одним из тех, кто тебя похитил. Мне неприятно думать об этом.
– Ты бы ни за что так со мной не поступил, – уверенно проговорила Лизбет. – Ты добрый, Даскин. Ты был добр ко мне с первой встречи – еще тогда, на вокзале в Иннмэн-Пике. Ты всегда был добрый. И хотя, как ты говоришь, тебя растили анархистом, ты им не стал.