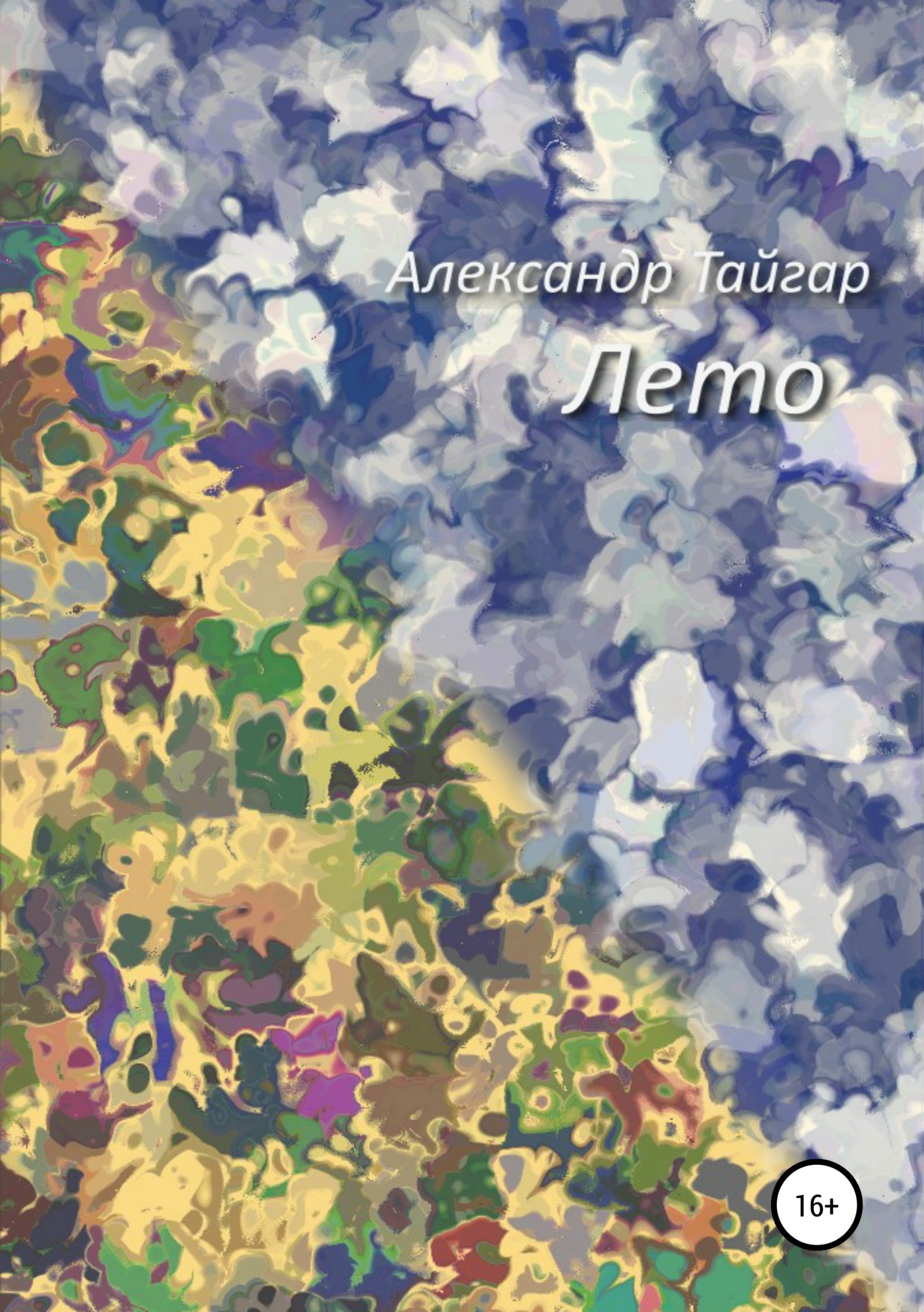А комендант, все смеясь, приказал:
- Повернитесь.
Приговоренные не поняли.
Комендант:
- Лицом к стене повернитесь, а к нам спиной.
Лица у конвоиров, у коменданта, у Срубова, у чекистов с револьверами одинаковы: напряженно- бледные. Только Соломин стоял совершенно спокойно. Лицо у него было озабочено не больше, чем нужно для будничной работы.
Срубов глаза в трубку, на огонек, а все-таки заметил, как...
Моргунов, бледный, хватал ртом воздух, отвертывался, но какая-то сила тянула его в сторону пяти голых и он кривил от них лицо и глаза.
Огонек в трубке дрогнул.
Больно стукнуло в уши.
Белые туши мяса упали на пол.
Чекисты с дымящимися револьверами быстро отбежали назад и сейчас же щелкнули курками.
У расстрелянных в судорогах дергались ноги.
Тучный Кашин со звонким визгом выдохнул в последний раз.
Срубов (закадровый голос):
- Есть ли душа или нет? Может это она с визгом выходит?
Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на ноги петли, отволакивали их в темный загиб подвала.
Двое, такие же, с лопатами копали землю, забрасывая дымящиеся ручейки крови.
Соломин Заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно.
В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил свое толстое тело на коротеньких ножках и тоненько дребезжал:
- Святый Боже, Святый крепкий... - глаза у него лезли из орбит.
Внезапно отец Василий упал на колени:
- Братцы родимые, не погубите!
А для Срубова он уже не человек - тесто. Нисколь не жаль такого. Четко, сквозь зубы:
- Перестань ныть, Божья дудка. Москва слезам не верит.
Его грубая твердость - другим чекистам толчок. Мудыня, крутя цигарку:
- Дать пинка в корму - замолчит.
Высокий, вихляющий Семен Худоногов и низкий квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, сволокли, стали раздевать.
Поп опять затянул, задребезжал стеклом в рассохшейся раме:
- Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный...
Ефим Соломин остановил их:
- Не трожте батюшку. Он сам разденется.
Поп замолчал. Мутные глаза на Соломина. Худоногов и Боже отошли. Отец Василий сказал вдруг спокойно, рассудительно:
- Братцы, не раздевайте меня. Священников положено хоронить в облачении.
Соломин ласково:
- В лапотине-то, дорогой мой, чижеле. Лапотина-то она тянет.
Поп полулежал на земле. Соломин сидел перед ним на корточках, подобрав полы длинной серой шинели, расстегивал у него черный подрясник.
Соломин:
- Оно эт-то ничё, дорогой мой, что разденем. Вот надоть тебя бы ещё в баньке попарить. Когда человек чистый да расчищенный, тожно ему и легче помирать. Чичас, чичас всю эту базтерму долой с тебя. Ты у меня тожно как птаха крылышки расправишь.
У священника тонкое полотняное бельё. Соломин бережно развязал тесемки у щиколоток.
Соломин:
- В лапотине тока убивцы убивают. Мы тебя не убиваем. Тебя казна казнит. А казнь, дорогой, дела великая, мирская...
Один офицер попросил закурить:
- Дайте дымку, затянуться перед смертью.
Комендант дал папиросу.
Офицер закурил, и стаскивая брови спокойно щурился от дыма:
- Нашим расстрелом транспорта не наладите и продовольственного вопроса не решите.
Двое других раздевались как в предбаннике, смеялись, болтали о пустяках, казалось ничего не замечали и видеть не хотели, но глаза обоих были мертвые, расширенные от ужаса. Пятая - женщина - крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала под револьвер.
А с папироской, рассердивший Срубова, не захотел поворачиваться спиной:
- Я прошу стрелять меня в лоб.
Срубов ему обрезал:
- Системы нарушать не могу - стреляем только в затылок. Приказываю - повернуться.
У голого офицера воля слабее - повернулся.
Увидел в двери массу дырочек. И вдруг та дырочка, которую он облюбовал, стала огромной дырой. Офицер легко прыгнул в нее и умер.
За ноги, веревками, оттащили их в загиб.
Чекисты крутили цигарки. Боже с осуждением сказал:
- Ефим, ты, как жаба, завсегда веньгаешься с ними.
Соломин тер пальцами под носом:
- А чё их дразнить и на них злобиться. Враг, он, когда не пойманный. А тато-ко - скотина бессловесная. Дома, когда по крестьянству приходилось побойку делать, так завсегда с лаской. Подойдешь, погладишь: стой, Буренка, стой. Тожна она и стоит. А мне того и надо. Половчее потом-то ее резать.
После этой пятерки Срубов перестал различать лица, фигуры приговоренных, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыхания - дурманящий туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползли на коленях, молили.
Срубов молчал, смотрел и курил.
Оттаскивали в сторону расстрелянных.
Присыпали кровь