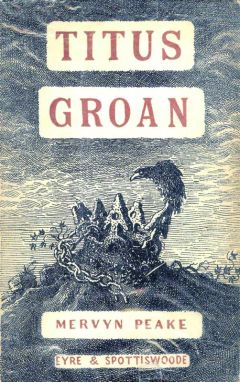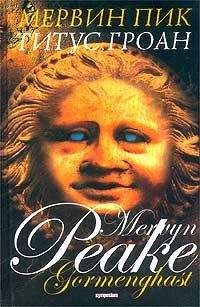Прюнскваллор глубоко вздохнул.
— Прямой подход, — пробормотал он. — Мастерский маневр. Да благословит Господь мою околичную душу, всем нам есть чему поучиться… всем.
Госпожа Шлакк, выпрямившаяся и затвердевшая от стеклянных виноградин на шляпе до крохотного ее седалища, засветилась от гордости.
— Господин Шлакк, — объявила она тонким, высоким голоском, — женился на мне.
Донеся до слушателей эту главную, как ей представлялось, мысль, она замолчала, а после в виде запоздалого пояснения прибавила:
— Да в ту же ночь и помер — и не удивительно.
— Благие небеса — живые, и мертвые, и те, кто еще не решили, куда им! Во имя всяческой загадочности, дорогая моя, да нет, драгоценнейшая госпожа Шлакк, что это вы говорите такое? — воскликнул Доктор с такими высокими переливами, что птица, затаившаяся в кроне дерева за их спиной, продралась сквозь листву и рванула на запад.
— Припадок у него приключился, — пояснила госпожа Шлакк.
— У нас — тоже — случались — припадки, — вдруг произнес некий голос.
Все трое уже позабыли о Двойняшках, и потому испуганно обернулись, но все же не успели приметить, какая из них открыла рот.
Впрочем, стоило им обернуться, как Кларис нараспев сообщила:
— У обеих, одновременно. Было очень мило.
— А вот и не было, — возразила Кора. — Ты забыла, какие они были противные.
— А, это! — откликнулась ее сестра. — Это мне было все равно. Вот когда мы не смогли ничего делать ни левой рукой, ни ногой, тогда они мне разонравились.
— Так я же об этом и говорю, разве нет?
— Нет, не об этом.
— Кларис Гроан, — сказала Кора, — ты слишком много на себя берешь.
— О чем ты? — спросила Кларис, встревоженно взглядывая на сестру.
Впервые за все это время Кора обратилась к Доктору.
— Невежда, — безучастно поведала она, — совсем не понимает, что такое облик речи.
Нянюшка Шлакк не совладала с охватившим ее искушением поправить леди Кору — это внимание, проявленное к ней Доктором, внушило старушке потребность продлить разговор. Тем не менее, нервная улыбка кривила ее губы, когда она произносила:
— Так не говорят, леди Кора: «облик речи»; вы имели в виду «фигуру речи».
Собственная осведомленность касательно этого оборота доставила Нянюшке огромное наслаждение, улыбка так и продолжала трепетать на ее морщинистых губках, пока она не обнаружила, что тетушки молча разглядывают ее.
— Служанка, — сказала леди Кора. — Служанка…
— Да, моя госпожа. Да. Да, моя госпожа, — с трудом вставая, сказала нянюшка Шлакк.
— Служанка, — эхом отозвалась Кларис, которой случившееся, пожалуй, даже понравилось.
Кора повернулась к сестре.
— А ты и вообще помолчи.
— Чего это?
— Да того, что она не с тобой была непочтительна, дура.
— Но я тоже хочу ее как-нибудь наказать, — сказала Кларис.
— Почему?
— Потому что я уже очень давно никого не наказывала… А ты?
— Ты вообще никогда никого не наказывала, — сказала Кора.
— Вот именно, наказывала.
— Кого?
— Не важно кого. Наказывала, и в этом все дело.
— Какое дело?
— Наказание.
— Ты про нашего брата, что ли?
— Не знаю. Хотя ее-то нам поджигать не придется — или придется?
Фуксия вскочила на ноги.
Ударь она любую из теток — да и просто притронься к ним, — ее бы, верно стошнило, поэтому трудно сказать, что она собиралась сделать. Руки ее, повисшие вдоль тела, дрожали.
Фраза «Хотя ее-то нам поджигать не придется — или придется?» отыскала себе длинную, почти пустую полку в самой глубине мозга доктора Прюнскваллора, и другая занятная фразочка, дремавшая, свернувшись калачиком, на одном из ее концов, была вскоре сброшена вниз долговязой пришелицей, которая вытянулась, начиная с «Х» в голове его и кончая «я» на хвосте, в полную длину полки и перемигивала всеми своими сорока да еще одним (в пренебрежении принятыми правилами) глазками — считая по одному на букву, а все прочее отбросив на счастье; а вот и нечего было спать — владелец полки, да собственно, и всей костяной обители, в коей она помещалась, имел обыкновение в минуты самые неподходящие выдергивать придремавшие фразочки из наисмутнейших щелей и закутков, не говоря уж о полках, на коих притаились его серые клеточки. Тут всегда было неспокойно. Нянюшка Шлакк, прижав к зубам кулачок, старалась сдержать слезы.
Ирма смотрела в другую сторону. Леди не участвуют в «сценах». Они их просто не замечают. Она это отлично помнила. Урок Седьмой. Изогнув ноздри до того, что каждая приобрела положительное сходство с триумфальной аркой, Ирма уверила себя, что ничего толком не слышала.
Доктор Прюнскваллор, решив, что настало время вмешаться, вскочил на ноги и, колеблясь, будто ивовый прут, который воткнули в землю и, потянув за искусно очищенную от коры макушку, вдруг отпустили, издал редкой эксцентричности вопль, затем череду трелей, — увы, литературные условности позволяют нам передать их лишь стилизованным «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха» — и завершил это вступление таким сообщением:
— А Титус-то! Клянусь всем, что есть бесконечно малого! Господь-благослови-мою-душу, не иначе как его акула сожрала!
Сказать, какая из пяти голов повернулась быстрее, мы не возьмемся. Возможно, голова нянюшки Шлакк на долю секунды отстала от прочих — по той двойной причине, что и шея ее не отличалась особенной гибкостью, и любому восклицанию, сколь бы драматичным оно ни было и как бы сильно ни затрагивало предмета ее непосредственных забот, требовалось некое время, чтобы добраться до нужного раздела ее путанного умишка.
Впрочем, слово «Титус» отличалось от всех остальных хотя бы тем, что смогло отыскать кратчайший путь через клетки ее мозга. Сердце Нянюшки вскочило, так сказать, на ноги быстрее, чем мозг и, бездумно подчинившись ему, она, еще до того, как тело ее осознало, что получает какие-то распоряжения по обычным каналам, уже торопливо затопотала к воде.
Она не потрудилась задуматься ни о том, могут ли в простиравшейся перед нею пресной влаге водиться акулы; ни о том, стал ли бы Доктор столь легкомысленно высказываться относительно гибели единственного наследника рода; ни о том, что если акула и вправду съела Титуса, то она, нянюшка Шлакк, навряд ли сможет тут что-то поправить. Она знала только одно: нужно бежать туда, где прежде был Титус.
Старые слабые глазки позволили ей увидеть мальчика лишь после того, как она одолела половину разделявшего их расстояния. Но и это нисколько не снизило скорости, которую ей удалось развить. Акула-то все едино могла, того и гляди, слопать его, раз уж еще не слопала; и когда Титус наконец оказался в объятьях старушки, его оросил слезный душ.