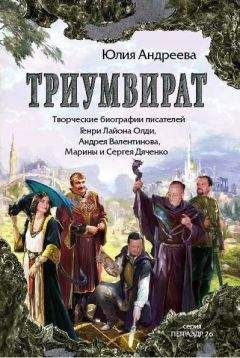— Ты дурачок…
Ну вот, теперь куда больше похоже на правду.
— Дурачок… я и сама не знаю, за что тебя люблю;
— Тоже мне загадка Сфинкса…
— А ты знаешь разгадку?
— Конечно; Я рыжий, коренастый, сумасшедший и слегка хромаю. А еще я очень хитрый.
Слово сказано. Загадка разгадана, теперь остается лишь ждать: растерзает Сфинкс безумца или нет? Ладони на моих плечах тяжелеют, наливаются — нет, не теплом, жаром! — и тишина за спиной беременна подземным гулом землетрясения.
Я действительно рыжий, коренастый и сумасшедший. Я слегка хромаю. Мы все были такие. Лемносский Кузнец, кровный родич, однажды взявший ее силой; фригийский сатир Марсий, пьяница и флейтист, собственной шкурой поплатившийся за самоуверенность; калидонец Тидей-Нечестивец, на ее глазах выпивший мозг своего врага, тем самым отказавшись от спасения; и вот теперь — я.
Ее любовники.
Сейчас она молчит. Ждет. Думает. Случайно ли я сказал то, что сказал — и что я хотел сказать на самом деле? Особенно последней фразой: «А еще я очень хитрый…»
— Я тебя люблю…
— Я тоже тебя люблю.
Вот и все. Мы оба сказали правду. Наилучшую из правд — не всю. Мы любим друг друга. Почему бы и нет? Мы оба едем на войну. Почему бы и нет?
Мы оба знаем, что вернемся обратно.
Почему бы и нет?!
Наша любовь была звездопадом. Лавиной в горах она была, буйством стихий, штормом в открытом море. Вечным восторгом; вакханалией для двоих. Все наши ночи я помню телом, душой, трепетом ресниц, дрожью пальцев; с женой у меня никогда не было так. С женой было иначе. Тихо, спокойно; обыденно. Плеском волн, нехитрым щебетом иволги, шорохом осени, когда листья опадают на усыпанную песком тропинку в саду. Сиюминутная вечность, не умеющая говорить о любви вслух. Первый выкидыш, рождение сына, пряжа, властная свекровь, варенье из кизила…
Я вернусь.
— Не сердись, милый… Я же говорила: тебя не оставят в покое. Если бы там, на Парнасе, ты послушался меня, вместо того чтобы с раненой ногой нестись сломя голову в Микены!.. потом это дурацкое посольство…
Она права.
Меня не оставили в покое.
Меня бы не оставили в покое, даже если на Парнасе, залечивая рану, я бы послушался ее и залег на дно.
Со дна подняли бы; вместе с илом и донной мутью.
* * *
…он выхватил моего сына из колыбели. Я сидел у окна талама[2], раскачиваясь и ту по мыча свадебный гимн, а Паламед-эвбеец шагнул с порога прямо к колыбели, и вот: на сгибе левой руки он держит пускающего пузыри Телемаха, а в правой у него — меч. Ребенок засмеялся, потянулся к блестящей игрушке. Паламед засмеялся тоже:
— Выбирай, друг мой. Хочешь остаться? — отлично. Останешься сыноубийцей. Как твой любимый Геракл. Я спущусь вниз один и скажу всем, стеная: «Одиссей-безумец не едет на войну. Он слишком занят похоронами сына, которого зарезал до моего прихода». Мне поверят; ты сам слишком постарался, чтобы мне поверили.
Я допел свадебный гимн до конца.
— Оставь ребенка в покое, — сказал я после, вставая со скамьи. — Пойдем. Я еду на войну.
Тогда я еще не знал, что умница-Паламед приехал не один. Оба Атрида[3] ждали во дворе, с ног до головы увешанные оружием и золотыми побрякушками; и еще Нестор — этот, как всегда на людях, кряхтел и кашлял, притворяясь согбенным старцем; и еще какие-то гости, которых я не знал.
Они беседовали с моей женой и не сразу заметили нас.
— Я спас тебе жизнь, — тихо шепнул Паламед, пропуская меня вперед. — Останься ты дома, хоть безумный, хоть нет, и жизнь твоя будет стоить дешевле оливковой косточки. День, два… может, неделя. И все. Удар молнии, неизлечимая болезнь… землетрясение, наконец. Надеюсь, Одиссей, ты понял меня.
— Я понял тебя, — без выражения ответил я.
— Теперь ты будешь меня ненавидеть?
— Нет. Я буду тебя любить. Как раньше. Я умею только любить.
— Наверное, ты действительно сумасшедший, — вздохнул Паламед.
Я не стал ему ничего говорить. Он просто не знал, что такое — любовь. Настоящая любовь.
* * *
— Ты задумался, милый? О чем?
— О своей печени. В которую рано или поздно ткнет копьем проворный троянец. Я буду лежать на берегу Скамандра, и твоя рука невидимо для живых утрет мне смертный пот со лба. Как ты думаешь, может, мне стоило бы заранее составить песню об этом? Иначе с площадных горлохватов станется все переврать… Пылью власы его густо покрылись; скорбели герои над мужем, память о коем останется жить, пережив его бренное тело…
И тут она расплакалась.
Вскочив, я принялся неуклюже утешать ее; нет, какая все-таки я скотина! — ведь знаю, чем она рискует, явившись сюда, ко мне, в ночь перед отплытием!.. губами ловил капли, струившиеся из ослепительно-синих глаз, бормотал глупые слова оправданий, гладил русые волосы, стянутые на затылке тугим узлом; потом долго стоял молча, крепко прижав ее к себе…
Вспомнилось невпопад: с женой мы сегодня не любили друг друга. Все кругом рассказывают, как жены в последнюю ночь крепко любят своих мужей, уходящих на войну, — а у нас не сложилось. Сперва Пенелопа укладывала спать ребенка, не доверяя нянькам (или просто боясь разрыдаться по-настоящему), затем мы молчали, сидя рядом на ложе.
Все у меня не так, как у людей.
— Ну что ты, что ты, маленькая… брось, не надо…
Прав был Паламед: я действительно сумасшедший. Вот уж сказал, так сказал. Маленькая… А что делать, если других слов не нашлось?
— Тысячу!.. я убью тысячу воинов!.. я…
Интересно, тот троянец, чье копье жаждет вкусить моей печени, тоже кричит сейчас об этом? а, пусть его кричит.
Он же не знает, что я вернусь.
…когда она ушла — вот только стояла у перил, глядя на зеленую звезду, и уже ее нет, лишь ветер, ночь и ропот прибоя — я налил себе еще вина.
Осталось мало времени.
До рассвета всего ничего; до рассвета я должен научиться возвращаться.
Я, Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, — и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Одиссей, владыка Итаки, груды соленого камня на самых задворках Ионического моря. Муж заплаканной женщины, что спит сейчас в тишине за спиной; отец младенца, ворочающегося в колыбели. Любовник той, чье имя лучше не поминать всуе. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! я…