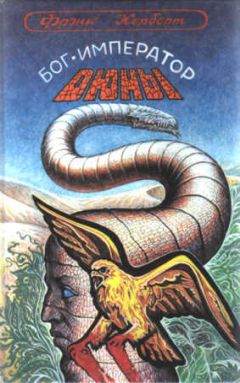— Припомни свое собственное прошлое, — сказал Лето.
— Действительно, господин! У нее такие способности, такой потенциал, которого у меня никогда не было. Но это делает ее опасной.
— К тому же она совсем тебя не слушается, — проговорил Лето.
— Нет, но я внедрил в среду ее мятежников своего агента.
Должно быть, это Топри, подумал Лето.
Не надо было обладать предзнанием, чтобы понимать: Монео обязательно внедрит в эту среду своего агента. С самого момента смерти матери Сионы Лето знал обо всех действиях Монео, даже о тех, которые он только замышлял. Наила давно заподозрила Топри. И вот теперь Монео обнаружил свои страхи и свои действия, чтобы обеспечить своей дочери большую безопасность.
Как жаль, что эта женщина успела родить от Монео только одного ребенка.
— Вспомни, как я обращался с тобой в подобной ситуации, — сказал Лето. — Ты знаешь требования Золотого Пути не хуже чем я.
— Но тогда я был молод и глуп, мой господин.
— Ты был молод и дерзок, но отнюдь не глуп.
Монео позволил себе натянутую улыбку, принимая комплимент и все больше и больше убеждаясь в том, что только теперь понимает намерения Лето. Однако они очень опасны!
Желая укрепиться в своем убеждении, он сказал:
— Вы же знаете, как я обожаю сюрпризы.
Это верно, подумал Лето. Монео обо всем догадывается. Но даже удивляя меня, Сиона постоянно напоминает о том, чего я боюсь больше всего на свете — обыденности и скуки, которые могут исказить Золотой Путь. Надо лишь вспомнить, как скука едва не позволила Дункану одолеть меня. Сиона — это тот контраст, который позволяет мне понимать мой глубинный страх. Озабоченность Монео по поводу меня вполне понятна и обоснованна.
— Мой агент будет продолжать наблюдение за ее новыми товарищами, господин, — сказал Монео. — Они. мне не нравятся.
— Ее товарищи? У меня самого когда-то были подобные товарищи.
— Мятежники, господин? У вас? — Монео был не на шутку изумлен таким признанием.
— Разве я не доказал, что являюсь другом бунтовщиков?
— Но, господин…
— Аберрация прошлого в нашей памяти распространена гораздо шире, чем ты думаешь!
— Да, господин. — Монео был обескуражен, хотя его все еще разбирало любопытство. Он знал, что Лето обычно становится разговорчивым после смерти очередного Дункана. — Должно быть, вы знали многих мятежников, мой господин.
При этих словах мысли Лето невольно погрузились в глубины памяти о предках, которые восстали перед его внутренним взором.
— Ах, Монео, — пробормотал Лето. — Мои путешествия по закоулкам, где прячутся мои предки, воссоздают такие события, которые я больше никогда не желаю видеть.
— Могу себе представить эти внутренние путешествия, господин.
— Нет, ты не можешь этого представить. Я видел людей и планеты в таком количестве, что они потеряли свое значение даже в моем воображении. О, какие ландшафты я видел. Узор чужих дорог выступает из пространства и запечатлевает во мне это внутреннее видение, запечатлевает в моей памяти осознание того, что я — ничтожная пылинка.
— Не вы, мой господин. Определенно, это не вы.
— Я меньше чем пылинка! Я видел людей и их бесплодные сообщества с такой регулярной повторяемостью, что их полная бессмыслица наполнила меня скукой, слышишь?
— Я не хотел разгневать вас, господин, — кротко произнес Монео.
— Ты не злишь меня. Иногда ты меня раздражаешь, но не более того. Ты не можешь себе представить всего того, что я видел, — халифов и меджидов, рак, раджей и башаров, королей и императоров, премьер-министров и президентов — я видел их всех, вплоть до самого ничтожного фараона.
— Простите мне мою самонадеянность, господин.
— Проклятые римляне! — воскликнул Лето.
Он сказал то же самое мысленно, обращаясь к предкам. Проклятые римляне!
Скопище предков разразилось в ответ жутким хохотом.
— Я не понимаю вас, господин, — осмелился проговорить Монео.
— Это правда. Ты действительно меня не понимаешь. Римляне распространили по миру болезнь фараонов, разбрасывая ее семена, как сеятели разбрасывают зерна. От этого семени произошли всходы — цезари, кайзеры, цари, императоры… казерии… палатосы… и проклятые фараоны!
— Я не знаю многих из этих титулов, мой господин!
— Возможно, я последний из их числа, Монео. Молись, чтобы это было так.
— Как прикажет мой господин.
Лето взглянул на человека.
— Мы — убийцы мифа, Монео. Ты и я. Это мечта, которую мы оба разделяем. Могу уверить тебя с моей олимпийской высоты, что правительство — это миф, в который верят многие. Как только умирает миф, умирает и правительство.
— Так ты учил меня, господин.
— Нашу мечту породил инструмент, состоящий из людей-автоматов — армия, друг мой.
Монео нервно откашлялся.
Лето понял, что мажордом проявляет признаки нетерпения.
Монео все понимает относительно армий. Он знает, что только глупец может считать армию основным инструментом государственного правления.
Лето молчал, и Монео направился к лазерному ружью, поднял его с холодного пола крипты и принялся разряжать.
Лето наблюдал за его действиями и думал о том, что эта маленькая сценка является отражением сути армейского мифа. Армия питает технику, поскольку сила автоматического оружия кажется столь очевидной близоруким и недальновидным.
Лазерное ружье — это не более чем простая машина. Но всякая машина отказывает или ее превосходит другая машина. Однако Армия держится за машину, как за святыню — чарующую и одновременно страшную. Посмотрите, как люди боятся иксианцев! Армия нутром чувствует, что они — ученики чародея. Вооружение снимает узду с техники и этого джинна уже невозможно загнать обратно в бутылку.
Я же учу их иной магии.
Лето обратился к толпе своих предков:
«Вы видите? Монео разрядил этот смертоносный инструмент. Связь прервалась, капсула раздавлена».
Лето втянул носом воздух, ощутив эфирный запах ружейного масла, смешанный с запахом пота Монео.
Обращаясь к предкам, Лето продолжил: «Но джинн не умер. Технология — питательная среда для анархии. Она способствует широкому распространению таких инструментов, а это провоцирует насилие. Способностью производить невиданные разрушения начинают обладать все более мелкие группы и так продолжается до тех пор, пока оружие не попадает в руки каждого отдельно взятого человека».
Монео вернулся на прежнее место, держа в правой руке разряженное ружье.