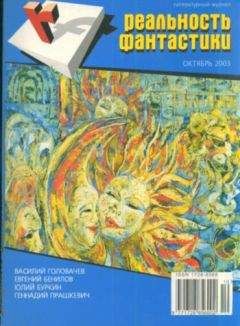… Раз это нужно, пусть он спит с тобой,
Раз нужно, пусть он делит землю с тобой,
Ноя, я буду петь для тебя,
Но только я буду петь для тебя,
И я, я буду водить тебя в небо с собой…
Из песни «О, да!»1Отчего-то мнилось мне, что стоит отвлечься от повседневных дел, как мое сознание немедленно примется генерировать и фонтанировать. Каникулы, однако, были уже на исходе, а сольный проект еле-еле сдвинулся с мертвой точки. Фонтанировать сознание не спешило.
А в среду вечером, как раз в тот момент, когда мне только стало казаться, что у меня начинает что-то вырисовываться, в студию позвонил Чуч. Сердобольно глядя на меня с экрана, он вместо приветствия, спросил:
— Ну как фонтан?
— Фонтан сочится, — сдержанно откликнулся я.
— Ну-ну, — кивнул Чуч. — А радостное известие услышать хочешь?
По его интонации я легко догадался, что известие отнюдь не радостное, потому сказал честно:
— Не хочу.
— А придется, — сказал Чуч. — Послезавтра летим в Австралию.
— Шутишь?! — не поверил я своим ушам.
— Если бы. Неожиданное, по-по-нимаешь, предложение. На-настолько выгодное, что Аркаша не смог от-отказаться.
— А меня спросили?! — озверел я так быстро, что даже сам удивился.
— А чего ты на меня-то орешь?!! — озверел в ответ Чуч.
— А на кого мне еще орать?! — ответил я резонно.
— На кого хочешь ори, только не на меня, понял?! На Аркашу, например, ори, понял?!
Прекрасно сознавая слабость своей позиции и от этого раздражаясь еще сильнее, я упрямо гнул свое:
— Про Австралию мне не он сказал, а ты!
— Болван! — сказал Чуч мрачно и отключился.
Нужна мне ваша Австралия, как собаке пятая нога. Бывал я уже там. У меня еще и тапочки австралийские не износились. Из шкурок сумчатой белки.
И тут же на связь вышел наш замечательный «худрук» Петруччио. Я сразу подумал о том, что, не посовещавшись с ним, Аркаша никогда не принял бы решение о внеплановых гастролях.
— Ну как? — спросил Петруччио.
— Фонтан?! — свирепо откликнулся я.
— Что это с тобой, дружок? — удивился он.
— Кенгуру тебе дружок, — огрызнулся я.
— Ого?! — удивился Петруччио и тоже сразу отключился.
Значит, точно виноват, раз даже не попытался выяснить, почему я на него наехал.
…А через день, при посадке в гравилет, с неприязнью на него смотрел уже не только я, но и все прочие эрэсовцы. Дело в том, что давным-давно у нас в группе установлено незыблемое правило: подруг, невест и жен на гастроли не брать ни при каких обстоятельствах. Если ты по ходу дела обзавелся подружкой из числа группиз, тебя никто не осудит, но никаких женщин из дому.
Смысл в этом правиле заложен глубокий и практический, ведь с каждым из нас в турне может случиться какое-нибудь приключение той или иной степени романтичности. И нам вовсе не нужны женские глаза, женские уши и женские языки, которые вместе с нами вернутся домой.
Так вот. Петруччио явился на посадку под руку с девушкой. Впрочем, хотя он и слыл гением-одиночкой, сперва мы не придали этому особого значения, ведь всех нас кто-нибудь провожал. Но мы не могли не заметить, что его спутница удивительно хороша. Совсем юная, с большими синими, как будто бы чуть испуганными, глазами на тонком смуглом лице и с пепельными волнистыми волосами до плеч.
И вот мы поднялись в салон, наши провожатые остались на перроне… А Петруччио вошел в гравилет вместе со своей дивой! Вот это уже ни в какие ворота не лезло. Мы, конечно, не могли устроить разборки прямо тут же, у девушки на глазах, но сверлили Петруччио многозначительными взглядами. Он же сидел в кресле, потупившись и делая вид, что ничего особенного не происходит.
Но надо отдать ему должное, демаркационную линию он перешагнул первый. Когда гравилет, выйдя в стратосферу, набрал скорость, и мы смогли расслабиться, Петруччио громогласно объявил:
— Эй, все! Это Ева. Вопросы есть?
Мы переглянулись. Вопросы у нас были, но задать их ему хотелось бы конфиденциально.
— Нет вопросов, — констатировал Петруччио, — тогда представьтесь ей сами.
И мы начали, было, называть себя, но девушка прервала нас с трогательной простотой:
— Незачем затруднять себя. Я знаю ваши имена. Я ваша давняя фанатка.
Пока она говорила, я загляделся на нее. Черт побери, где Петруччио откопал этого стройного синеглазого ангела?! Ни единого изъяна не видел я в ее лице, не было оно к тому же ни слащавым, ни вульгарным, ни холодным, ни манерным. Просто красивый человек, который прекрасно об этом знает, но не придает этому факту значения большего, чем он того заслуживает…
— Петя сказал мне, — продолжала она, — что вы будете против, но я убедила его взять меня с собой. Прошу прощенья. Я не стесню вас. Обещаю.
Я набрал в грудь воздуха, собираясь рассыпаться в уверениях, что, мол, ей вовсе не о чем беспокоиться, что она никак не может нас стеснить, и что даже наоборот, сам факт ее присутствия рядом значительно облегчит нашу жизнь… И я уже, было, открыл рот, чтобы произнести эту, или какую-то похожую, галиматью, как услышал, что меня опередил Чуч:
— Что вы, что вы, Ева, мы только рады…
И это наш тормоз, наш грубый и неотесанный вокалист-подкладочник?!
— Лично я с удовольствием составлю вам компанию, — вторил ему Пилецкий, масляно прищурив глазки.
— Не думаю, что это очень уж интересное предложение, — заметил Чуч, нехорошо глянув на Пилу. Но тот, пропустив эту колкость мимо ушей, продолжал:
— Австралию я знаю, как свои пять пальцев, а Сидней — буквально мой дом родной. Уверен, Ева, мое общество принесет вам массу сюрпризов.
Я почувствовал, что ревную. Сильно. Видно, то же почувствовал и Чуч, потому что сказал, глядя на Пилецкого еще более недобро:
— Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела: Тот парировал, говоря с нажимом:
— Рано КОШЕЧКА запела, как бы ПТАШЕЧКА не съела.
Петруччио молчал, но выглядел несчастным. В воздухе отчетливо пахло бедой. Женщина на корабле. Обстановку разрядила сама Ева. Обведя нас понимающим взглядом и одарив открытой доброжелательной улыбкой, она сказала крайне многозначительно:
— Вот только давайте не ссориться из-за меня. Уверяю вас, хорошо будет нам всем. Никто из нас не понял, что конкретно сулят нам эти слова, но продолжать открытую
или завуалированную пикировку Чучу и Пилецкому стало уже как-то неловко. Мне же показалось, что взгляд Евы на моем лице задержался дольше, чем на остальных.