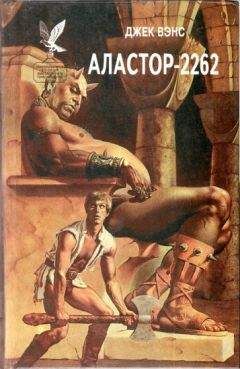Я дипломатично сцеживал ухмылки в салфетки, но один раз все же не удержался и показал расшалившейся девчонке кулак. Винкл сочла возможным проигнорировать.
После ужина я уже привычно ухватил сестрицу за локоток, взглядом извинился перед подозрительно задумчивым Алом и аккуратно вывел ее из столовой.
— Какая муха тебя на этот раз укусила?..
Винкл невинно похлопала глазками.
— Какая муха?.. Что за муха?.. Аластор, вы изъясняетесь загадками!..
После чего вежливо отобрала у меня свою ладонь и скользящей, необыкновенно женственной походкой двинулась вверх по лестнице; я, как дурак, остался внизу. Любоваться ее обнаженной спиной, окаймленной обтягивающей тканью, почему-то оказалось необыкновенно приятно.
Все-таки человек, призвавший к порядку эту язву, достоин присуждения Нобелевской премии, — рассеянно подумал я и, посмеиваясь, двинулся наверх.
На этот раз Аластор отчего-то не присоединился к нашим ежедневным вечерним посиделкам в беседке, с разговорами в неформальной обстановке и гитарой. Поэтому мы с Винкл, немного посерьезневшей после захода солнца (однако, не стоит считать, что она утихомирилась окончательно), могли мирно побеседовать о том, что ему знать не стоит.
Серьезный разговор не клеился; мне не хотелось портить чудный августовский вечер, Винкл рассеянно перебирала струны.
— Винкл, нам… — я хотел сказать вечное "нам надо поговорить", но она не дала мне закончить, звонким перебором заполнив вечернюю тишину и поудобнее перехватив гитару.
Она начала непривычным шепотом, подхватив чересчур резкие строки сложной игрой. Мелодия мне нравилась; слова — категорически нет. Впрочем, сейчас, по прошествии многих лет, когда я вспоминаю этот вечер и перечитываю эти строки, без переборов они кажутся мне блеклыми и осиротевшими.
В неверном сумраке ночи растает день,
И я уйду,
Оставив тень.
Я растворюсь в тиши небесной навсегда,
Но верю, ты
Любил меня.
Сгораю в пламени свечи, как мотылек,
Ведь жертва — я,
А ты — не бог.
Я распадусь на клочья пыли у дорог,
Теперь мне — рай,
Тебе — острог.
Все исчезает в ярких бликах янтаря,
Погибло все,
И даже я…
Я молча перехватил гитару за гриф и переложил себе на колени. Винкл ойкнула от неожиданности.
— Вин, нам действительно…
Но она резко рванула гитару обратно, вскочила на ноги, чуть не оттоптав мои.
— Дайте мне наиграться, — тихим, жалостливым шепотом попросила Винкл, бросив мимолетный взгляд на окна столовой. Немного помолчала и горько добавила: — Недолго вам уже терпеть осталось.
***
"Territoria" увлекла нас целиком и полностью с того самого дня, как Аластор неосторожно заявил, что стратегии и симуляторы — это все ерунда, и лишь "Политология…" Верфшульца достойна нашего внимания. После этого мы, праведно возмущенные, принялись доказывать обратное (судя по ехидной и довольной ухмылке Ала, этого он и добивался); за четыре с половиной часа захватили-таки вражеский крейсер "Звездный Волк" и, очень довольные собой, отправились опустошать холодильники.
Последняя неделя августа прошла довольно мирно: мы с Алом беседовали о кибертехнике, Винкл доводила старшее поколение до судорог (и довела-таки — мать перестала появляться на трапезах, а мою сестрицу до ноября лишили десертов), а "Territoria" баловала нас новыми вариантами концовок.
Правда, все чаще и чаще я оставался в одиночестве: у Винкл и Ала появились какие-то свои таинственные дела; пару раз я видел их, мороженое и гитару в виноградной беседке на втором этаже. Мороженое исправно поедалось, гитара мирно лежала на лавочке и молчала; Ал что-то рассказывал, Винкл довольно хихикала — я редко когда видел ее столь оживленной. Мне на несколько мгновений даже стало завидно, но я быстро подавил в себе это чувство. Правда, эти горящие глаза мне категорически не нравились… Ал, конечно, парень порядочный, но…
Хотя какая теперь-то разница?..
Поэтому я спокойно гулял по нашему парку, вглядываясь в узорчатые плиты. Каждая аллея здесь — а всего их, между прочим, двести шестнадцать, — имеет свой собственный символ, изображенный на каждой пятой плите в центральном столбце. Самая красивая из всех, на мой взгляд, длинная Аллея Дракона — по ней-то я и шел, любуясь дракончиками самых разных форм и расцветок.
Стоял тихий сентябрьский вечер, уже по-осеннему прохладный, но светлый. Яркое солнце, чудовищным глазом исчезающее за веком горизонта, расцвечивало небо причудливыми ало-золотыми всполохами, отражающимися в многочисленных глубоких горных озерах бегущими рябью бликами и повторяющимися в рано опавших осенних листьях.
Листья, умирая, великолепным ковром шелестели под моими ногами. Синее-синее небо дарило засыпающей земле последние лучи летнего тепла…
Время и погода в космосе весьма условны: на Корсарии люди редко вспоминают о том, что местные сутки, сезоны, года не совпадают с общегалактическими. Но, в конце концов, так гораздо удобнее — и раз в год волшебным новогодним вечером снег идет одновременно и в Москве, и в Нью-Йорке, и в Австралии, и в Луна-сити, пушистой шапкой укрывая вывески и крыши и распадаясь иллюзорными брызгами в нескольких сантиметрах над тротуарами и путями сообщений…
Я шел по дорожке, всматриваясь в причудливый осенний узор, и думал о своей необыкновенно "дружной" семье; мои думы, как мне кажется сейчас, тогда были слишком уж пессимистичны, что было даже немного странно — ведь отец третьего дня как уехал на Луну, где квартировал центр его концерна, и забрал с собой Марка, благодаря чему на нашей вилле на полторы недели воцарились спокойствие и уют.
Семья… сейчас это слово мало значит для меня. Но тогда Корсария была единственным местом, где я проводил время, а родственники составляли весь мой узкий круг общения, что вынуждало с ними мириться. Я не мог, да и сейчас не могу сказать, что наша семья была особенно — или хоть как-то — дружна. Мы проводили вместе лишь еженедельный воскресный совет да три дневные трапезы, причем от присутствия на обоих мероприятиях можно было отговориться банальной головной болью. Я избегал отца, презирал — хоть и не имел на это права — мать, не разделял взглядов деда и находил своих старших сестер глупыми и скучными пустышками. Близкой родней я считал лишь дядю Соалита, с которым всегда можно было поболтать о кибертехнике, да Каролла, с которым мы провели все свое детство — в силу близости в возрасте, но не интересах.