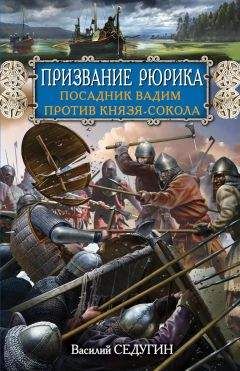Горожане тянулись цепочкой между телегой и строем пьяниц, но преимущественно взирали не на своих непутевых земляков, давно всем глаза намозоливших, а на Добрыню, который, несмотря на полуденную жару, не снял с себя ни броней, ни меча, а только голову обнажил.
Да и сам боярин уделял проходящим мимо него людям самое пристальное внимание. Можно сказать, глазами ел.
Таким манером протопала уже не одна сотня, как вдруг Добрыня указал на какого-то ничем не примечательного горожанина.
— Остановись-ка, братец мой!
Тот, словно споткнувшись, замер на месте, застопорив двигавшуюся вслед шеренгу. Внимание знатной особы, похоже, ничуть не льстило ему, а, наоборот, смущало.
— Тебя как кличут? — спросил Добрыня, рассматривая горожанина с ног до головы.
— Радко Скорядич, — смиренно ответил он.
— Чем занимаешься?
— Извозом.
— Далече ездишь?
— Нет, недалече. В сумежные городишки.
— Что так?
— Кони слабосильные.
— Где ж ты, Радко Скорядич, такие ладные сапоги раздобыл?
— У заезжего купца.
— Поди, щедро заплатил?
— В меру.
— Повезло тебе, братец. Сапоги-то не простые. Заморского покроя. И сафьян на загляденье. Такие разве что в Царьграде носят, да еще в стольном Киеве. Даже в Новограде ничего подобного не сыщешь. А не велики ли они тебе?
— В самый раз.
— А ну-ка, молодцы, проверьте!
Повинуясь знаку Добрыни, двое дюжих стражников приподняли Радко и хорошенько встряхнули. Сапоги пали на землю, как переспелые яблоки, дождавшиеся осенней бури. На ногах остались только размотавшиеся онучи.
— Где остальные пожитки Власта Долгого? — слово это Добрыня молвил, как мечом рубанул.
— Откуда мне знать? Мои сапоги! Облыжно обвиняешь, боярин! — кричат все еще трепыхавшийся в воздухе Радко. — Лукавое слово не доказательство. Боги истину знают!
— Вот мы их сейчас и спросим. — Добрыня упер руки в бока. — Только сначала тебя, братец, железом испытают. И если ты, паче чаянья, перед людьми и небом чист, боги тебя в обиду не дадут. Заступятся. В ином случае не обессудь… Десятский, тащи его к огню.
Дрыгающего босыми ногами Радко быстрехонько доставили к горну, где кузнец уже извлекал из углей полосу металла, раскаленную до вишневого цвета.
Слаб в поджилках оказался Радко Скорядич. Сдался, даже железа не коснувшись, а только жар его ощутив.
— Пощади, боярин! — падая на колени, возопил он. — Не губи зазря! Нет на мне крови Власта Долгого! Все скажу, как отцу родному!
— Говори, — милостиво кивнул Добрыня. — Для того мы здесь и собрались.
— Сапоги не мои. Я за них той ночью корчагу браги отдал. За них да за носильное платье. Не ведал, что они с убиенного сняты.
— С кем ты сторговался? Назови имя?
— Имя не знаю. А на улице его Вяхирем обзывают. Да вот же он, лиходей, супротив тебя землю попирает.
Человек, на которого указал несчастный Радко, уже давно стоял, потупившись и заведя руки за спину, словно загодя приноравливался к дыбе. В шеренге пьяниц он был ниже всех ростом да, пожалуй что, и тщедушней.
— Ты очи не прячь, — сказал ему Добрыня. — Чужую жизнь отнять легко, а ответ держать тяжко.
— Не убивал я никого, — по-прежнему глядя в землю, буркнул человек, прозванный Вяхирем, то есть мешком сена, лентяем.
— Сам, значит, убился? С седла упал?
— Сие мне не ведомо. Я его мертвого нашел. Остыть успел. Одежка мне приглянулась, спора нет. На том свете она без надобности. Обуяла корысть. Разнагишил покойника и все его барахлишко вот этому живоглоту снес. — Он мотнул головой в сторону коленопреклоненного Радко. — Невинной овечкой сейчас прикидывается, а сам с младых ногтей скупкой краденого промышляет. Извоз держит только для отвода глаз. Товара у меня взял на целую гривну, а взамен корчагой сусляной браги одарил. Одно слово — мироед.
— Почему коня не продал?
— Не дался мне конь.
— Поблизости никого не видел?
— Никого.
— В каких богов веруешь?
— В нынешних. Асами называемых.
— Сейчас поклянешься их именем. Слова клятвы знаешь?
— Знал, да запамятовал.
— Ничего, волхв тебе напомнит. Слушай со вниманием, опосля повторишь… А ты, посланец богов, читай внятно, не бормочи. — Добрыня отступил от края телеги, пропуская вперед косматого страховидного волхва.
Поднятый спозаранку, тот не успел позавтракать мухоморами и поганками, а потому не достиг пока состояния, позволяющего запросто общаться с богами. Но не зря говорят, что дело мастера боится. Покрутившись немного на одной ноге и в кровь расцарапав себе лицо, волхв все-таки поймал нужный кураж. Глас, разнесшийся над двором посадника, был подобен вою волка:
— О хозяева мира, властители Астарда и Хеля, хранители меда жизни и прародители людей, призываю вас в свидетели! Клянусь копьем Одина, молотом Тора, мельницей Фрейра, власами Сив, яблоками Идунн и золотом ивергов, что не покривлю против истины ни в словах, ни в помыслах, ни в поступках. Залогом тому моя жизнь. В противном случае пусть на меня падут гнев богов и порицание людей.
Волхв еще продолжат вещать замогильным голосом, а Добрыня уже сошел с телеги и поманил к себе Вяхиря. Сошлись они возле горна, из которого услужливый кузнец уже извлек клещами железный слиток, предназначенный в будущем дли изготовления меча.
— Теперь дело за малым, — сказал Добрыня. — Ты должен повторить клятву, держа железо в руке. Боги не оставят невинного своим заступничеством, а лживец, дерзающий против истины, пострадает.
— Прежде ты именем князя действовал, а теперь еще и божьи права на себя взял. Не жирно ли? — Вяхирь зло оскалился. — Если ты такой праведник, почему сам железа сторонишься? Подай мне пример, червю ничтожному.
— Так тому и быть. — Добрыня голой рукой взял из клещей исходящий сизым дымком слиток и протянул его Вяхирю.
Тот, словно в умопомрачении, ухватился за раскаленное железо и даже успел произнести: «О хозяева мира…» — но тут же взвыл и затряс в воздухе растопыренной пятерней, словно невидимую мошкару разгонял. Сквозь вонь пота, дегтя, онуч и перегара пробился запашок горелого мяса.
— Ты лжец. — Взвесив железо на ладони, Добрыня швырнул его обратно в угли. — Да еще и трус. А потому казни подвергнешься позорной. В болоте утопнешь или живым в землю ляжешь. Больше мне тебе сказать нечего.
— Верно, трус я. Со страха солгал. — Вяхирь с тоской оглянулся по сторонам, словно ища сочувствия у присутствующих. — Но на снисхождение уповаю. Не губил я никого отродясь, кроме самого себя.