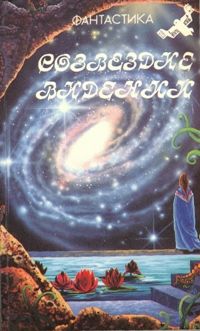Один Василий Прасолёнков не пригнул ни колен, ни головы. Он стоял, смотрел пристально в поле, и ветер неистово разбрасывал его русый чуб.
Митька подвел к нему бабку Просу.
— Сынок, — позвала старуха, ощупывая перед собою пустоту. — Где ты, сынок? Вася?
— Мама? Почему вы здесь? Идите в яму. Сейчас же идите в яму! Митя, сейчас же уводи бабушку!
— Погоди, Вася. Там… там… — она указала трясущейся рукой в поле. — Твой отец там. Иди, Вася, сынок, к нему. Иди скорее. И храни тебя господь.
Василий Прасолёнков некоторое время смотрел на мать, потом на Митьку и, тряхнув головой, так он делал всегда, когда на что-нибудь решался, сказал:
— Митя, сынок, веди бабушку в укрытие. Веди скорее, слышишь! И За мамой, за мамой смотри, Митя. Чтобы не высовывалась, смотри!
Митька шел с бабкой Просой к бултырю и время от времени оглядывался в поле: там асе еще хлопали одиночные выстрелы, далеко, уже на самой почти горбовине, чернела высокая фигура бабки Павлы, а правее, наперерез ей, бежал по пашне отец.
— Куда ты его послала, ба? Куда? — теребил Митька бабку Просу за полы фуфайки.
— Ему туда надо, — ответила ровным опавшим голосом бабка Проса.
— Куда, ба?
— Туда, внучек, к мужикам нашим.
— К каким мужикам?
И вдруг бабка Проса остановила Митьку и спросила:
— А где же народ, Митюшка?
— Тут, ба. Лежит, ба, весь народ.
— Лежит. Лежит? И мужуки лежат?
— Все лежат.
— А, лежат… Они, может, и в штаны наложили! Эй, мужуки! Вставайте, мужуки! Да как же вам не совестно! Что ж это вы похоронились? Осипка забоялись? Он, антихрист, над матерями вашими измывался да над сестрами. Некому тогда за нас заступиться было. А теперь он вон опять ружье взял. Совсем власть над вами, валухи чертовы, забрать хочет. Поднимайтеся, мужуки! Не принимайте грех на душу! Поднимайтеся все!
Старуха подняла голову вверх, откуда шло, струилось тепло родившегося дня, подумала: «Хоть солнце, может, увижу». Но ничего не увидела она и поняла, что ослепла окончательно. Но не это ее сейчас заботило. Она выждала немного н так же громко сказала:
— Чтой-то, Митюшка, не слышу я, старуха старая, как встают наши мужуки. Может, я не только ослепла, а и оглохла?
— Мужики лежат, ба, — сказал Митька.
— Лежат? А, тогда они оглохли. От Осипковой стрельбы оглохли мужуки наши. Ну, внучек, тогда я до них не докричусь. Веди меня туда, — и махнула властно рукой в сторону большака, где бил и бил по залегшей в редкой сурепке цепи из немецкой винтовки надежно зарывшийся в землю Осипок.
И тогда только, облизав сухие губы и уняв дрожь в руках и ногах, поднялось все Пречистое Поле. Поднялось и молча, не глядя друг другу в глаза, пошло вслед за старухой и мальчиком, а вскоре и обогнало их. Старуха почувствовала нечто такое, что до этого чувствовала только во сне, и то всего несколько раз за всю свою долгую, как. она сама считала, жизнь: Она узнала, что это. Необыкновенную легкость ощутила она во всем свеем теле, задышала чаще и глубже и, боясь, что силы вот-вот покинут ее вовсе, спросила Митьку:
— Идут? — Идут, ба.
— А теперь? — спросила чуть погодя, уже с трудом разлепляя губы.
— Идут! Все идут! Глянь, ба, и там тоже встали! Там! Там, ба! Солдаты встали, ба! — закричал Митька и еще сильнее потянул бабку Просу за руку.
— Митя, детка, — сказала она тихо, почти шепотом, — помоги-ка мне лечь. Вот тут, на землице. Тут я лягу. Тут мне хорошо будет.
— Ты что, ба? Все пошли, а мы!..
— Делай, что говорю, неслух. Вот так, так, детка. Спасибо тебе. А теперь отойди, я помирать стану. Отойди, Митя. Тебе, поди, страшно будет.
Митька молча отошел от бабки Просы на несколько шагов и остановился. «Как же так, — смятенно думал он, оглядываясь по сторонам, — если ты помрешь, то как же я без тебя, баба Проса?» В какое-то мгновение он хотел побежать вместе со всеми, но потом подумал, что одну бабку Просу оставлять умирать нельзя. Подойти к ней он тоже не осмеливался: не велела, да и страшно было. Раньше он видел мертвых. Бегал, и не раз, смотреть похороны, Но тут умирала его бабка, бабка Проса. Митька сел на землю и заплакал. Он размазывал трясущимися кулаками слезы по щекам и лбу и время от времени смотрел на бабку Просу, вытянувшуюся на пашне поодаль, Бабка Проса лежала смирно и смотрела в небо не щурясь. Митька с надеждой думал, что, если глаза открыты, человек еще жив.
А на горбовине большака между тем происходило вот что.
Не успели пречистопольцы миновать и половины того расстояния, которое отделяло их от Осипкова окопа, как с той стороны один за другим стали вставать солдаты залегшей цепи; кто-то из них крикнул, отрывисто, непонятно, а может, ветер оборвал, унес тот крик или нуля Осипкова, и, покачивая низко наклоненными к земле штыками, так что поблескивающие кончики их иногда задевали желтые головки сурепки. Побежали навстречу, полукольцом охватывая то место, откуда стрелял и етрелял Осинок.
Но первой настигла Осипка не пуля из той, густеющей от злобы и быстро приближающейся к нему цепи. И не штык, длинный, как копье, тяжелой русской винтовки первым настиг Осипка в его окопе, который некоторое время помогал ему держать прижатыми к земле обе половины села. Первой настигла Осипка Павла. И те и другие видели, как она подошла к бровке бруствера, подняла с пашни что-то похожее на тяпку или лопату и, размахнувшись высоко, во все плечо, рубанула в глубину окопа. Глухо и придавленно бухнул последний выстрел, совпав с ее ударом, и Павла, вскинув руки, стала медленно падать навзничь. Первым подбежал к Павле Василий Прасолёнков и подхватил ее на руки.
Люди сразу остановились, охнули, и в поле зависла такая тишина, что стало слышно, как в стороне выгона, сидя в сурепке, плакал навзрыд Митька. Голова его то поднималась из желтой кипени сорняков, то пропадала опять. Когда поднималась, рыдания были слышнее.
Осипка вытаскивать не стали. Он лежал на дне своего окопа, уткнувшись толовой в осыпавшийся угол и неловко подвернув под себя руку. Рядом лежал немецкий карабин, личное его оружие. Повсюду, даже на бруствере, валялись стреляные гильзы. А и много ж он их тут насеял, качали головами пречистопольцы и отходили в сторону. Из окопа воняло пороховой гарью, старческим потом и еще чем-то, непонятным пока, от чего, видно, и воротило всех.
Пречнстопольские бабы и мужики стояли с одной стороны и уже понемногу переговаривались, отходя от немоты. Заглядывали то в глубину окопа, то в глаза солдат. Те сгрудились с другой стороны и, тяжело дыша, молчали. И те и другие чувствовали за собой глухую непоправимую вину: одни — что вот так, не по-людски встретили своих, долгожданных; а другие — что не успели, что залегли перед какой-то сволочью, что допустили пролитие крови.
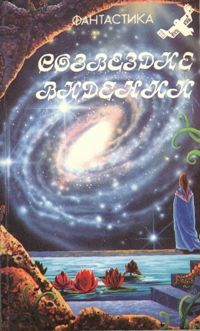
![Айзек Азимов - Роботы утренней зари [ Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/56423/56423.jpg)
![Айзек Азимов - Роботы зари [Роботы утренней зари]](https://cdn.my-library.info/books/54967/54967.jpg)