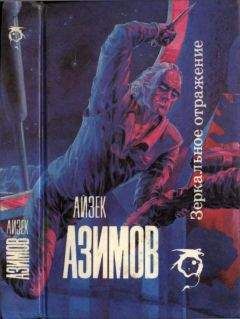Во второй половине XVI века в Риме жил один немецкий иезуит. Он был математик и астроном, и это он выполнил все необходимые вычисления для папы Григория XIII, когда тот вводил в 1582 году новый календарь. Астроном высоко ценил Коперника, но не разделял его гелиоцентрической идеи.
В 1650 году другой иезуит, итальянский астроном Джованни Баттиста Риччоли составил карту Луны.
Он называл кратеры в честь астрономов древности, и, так как он также не разделял точку зрения Коперника, самые крупные кратеры он назвал именами тех, кто ставил Землю в центр Вселенной — Птоломея, Гиппарха, Тихо Браге. Самый большой кратер, обнаруженный Риччоли, был назван им в честь своего предшественника, немецкого иезуита.
Однако этот кратер — второй по величине кратер, видимый с Земли. Самый большой кратер носит имя Бэйли и находится на самом лимбе Луны, и поэтому с Земли его увидеть очень трудно. Риччоли его не заметил, и этот кратер был назван в честь астронома, жившего сто лет спустя, который был гильотинирован во время французской революции.
Эшли слушал его с беспокойством.
— А какое отношение все это имеет к записке?
— Самое непосредственное, — несколько удивленно ответил Эрт. — Разве вы не назвали эту записку ключом ко всему? Разве это не ключ?
— Безусловно.
— Разве имеются сомнения в том, что это ключ к местонахождению Прибора?
— Нет, — ответил Эшли.
— Что же тогда… Имя немецкого иезуита, о котором я говорил, — Кристофор Клау. Вы не видите игры слов: «Клау» — «ключ»?
Эшли разочарованно опустился на стул:
— Не слишком ясно.
— Доктор Эрт, — взволнованно сказал Дэйвенпорт, — на Луне нет ничего, что называлось бы «Клау».
— Правильно, — запальчиво ответил Эрт. — В том-то все и дело. Во второй половине XVI века европейские ученые латинизировали свои имена. Клау тоже поступил так. Вместо немецкого «U» он поставил латинское «V». Затем он добавил характерное для латинских имен окончание «ius», и Кристофор Клау превратился в Кристофора Клавиуса, а я думаю, вам известен гигантский кратер, который мы называем «Клавиус».
— Не… — начал было Дэйвенпорт.
— Не перебивайте меня, — сказал Эрт. — Скажу только, что латинское слово «кеу» означает на нашем языке «ключ». Теперь вы наконец видите двойную игру слов на обоих языках? Клау — ключ, Клавиус — клавис — ключ. За всю свою жизнь Дженнингс не смог бы придумать такого каламбура, не имей он в руках Прибора. Но он придумал наконец этот блестящий каламбур и встретил свою смерть чуть ли не торжествующе. Вас он направил ко мне только потому, что знал, что я вспомню его склонность к игре слов, поскольку я сам ее любил.
Люди из Бюро смотрели на Эрта широко раскрытыми глазами. Он торжественно произнес:
— Я советую вам искать Прибор на затемненном склоне кратера «Клавиус», в том месте, над которым Земля ближе всего находится к зениту.
— Вы уверены в том, что говорите, доктор Эрт? — наклонился вперед Дэйвенпорт.
— Вполне. Но даже если я и ошибусь, мне кажется, это неважно.
— Что неважно?
— Найдете вы Прибор или нет. Даже если Ультра найдут Прибор, они скорее всего не смогут им воспользоваться.
— Почему?
— Вы спросили меня, был ли Дженнингс моим студентом. Но вы не спросили о Штраусе, который тоже учился у меня. На следующий год после Дженнингса. Я его хорошо помню.
—.-?
— Неприятный человек. Очень холодный. Я думаю, это отличительное качество всех Ультра. Они все очень холодны, бесстрастны и уверены в себе. Они не способны испытывать глубокие чувства: в противном случае они не замышляли бы уничтожение людей. Их чувства холодны и эгоистичны. Они не способны установить контакт с другими человеческими существами.
— Кажется, я понимаю.
— Я уверен, что понимаете. Из восстановленного разговора мы поняли, что Штраус не мог управлять прибором. Ему недоставало трепета, у него вообще не было никаких эмоций. То же будет и с остальными Ультра. Дженнингс мог управлять Прибором, ведь он не был Ультра. Человек, который сможет управлять им, по-моему, не будет способен на холодную жестокость. Он может внушить другому панический ужас, как это сделал Дженнингс, но передать другому существу холодный язык цифр и вычислений, как это пытался сделать Штраус, ему не удастся. Выражаясь банально, можно сказать, что управлять Прибором может лишь Любовь и никогда — Ненависть. Ультра же способен только на ненависть.
Ночь, которая умирает
(Пер. с англ. С. Васильевой)
Это отчасти походило на заранее организованную встречу бывших соучеников, и хотя их свидание было безрадостным, поначалу ничто не предвещало трагедии.
Эдвард Тальяферро, только что прибывший с Луны, встретился с двумя своими бывшими однокашниками в номере Стенли Конеса. Когда он вошел, Конес встал и сдержанно поздоровался с ним, а Беттерсли Райджер ограничился кивком.
Тальяферро осторожно опустил на диван свое большое тело, ни на миг не переставая ощущать его непривычную тяжесть. Его пухлые губы, обрамленные густой растительностью, скривились, лицо слегка передернулось.
В этот день они уже успели повидать друг друга, правда, в официальной обстановке. А сейчас встретились без посторонних.
— В некотором смысле это знаменательное событие, — произнес Тальяферро. — Впервые за десять лет мы собрались все вместе. Ведь это наша первая встреча после окончания колледжа.
По носу Райджера прошла судорога — ему перебили нос перед самым выпуском, и когда Райджер получал свой диплом астронома, его лицо было обезображено повязкой.
— Кто-нибудь догадался заказать шампанское или что там еще под стать такому торжеству? — брюзгливо проворчал он.
— Хватит! — рявкнул Тальяферро. — Первый Межпланетный съезд астрономов не повод для скверного настроения. Тем более оно неуместно при встрече друзей!
— В этом виновата Земля, — точно оправдываясь, проговорил Конес. — Все мы чувствуем себя здесь не в своей тарелке. Я вот, хоть убей, не могу привыкнуть…
Он с силой тряхнул головой, но ему не удалось согнать с лица угрюмое выражение.
— Вполне с тобой согласен, — сказал Тальяферро. — Я сам кажусь себе настолько тяжелым, что еле таскаю ноги. Однако ты, Конес, должен чувствовать себя неплохо, ведь сила тяжести на Меркурии — четыре десятых той, к которой мы когда-то привыкли на Земле, а у нас, на Луне, она составляет всего лишь шестнадцать сотых.
Остановив жестом Райджера, который попытался было что-то возразить, Тальяферро продолжал: