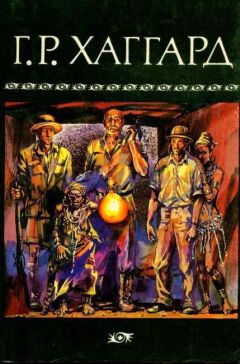Ознакомительная версия.
В октябре их должны были обнаружить и вернуть государству – но теперь не обнаружат и не вернут. Вмешательство в прошлое? Несомненно. Только ни государство, ни прошлое даже не почешутся от такого вмешательства. Так говорил Сулимов, и так же думал сам Кононов.
Конечно, могло тут иметь место и некоторое моральное неудобство, но неудобства этого Кононов не ощущал. Да, раздобытые им деньги были ворованными, но ворованными не у какого-то бедолаги, а у государства. А государство советское, по известному высказыванию, было очень богатое: пятьдесят с лишним лет его разворовывали, а разворовать до конца никак не могли. Каких-то пятнадцать тысяч, вытянутых из кармана советской державы, были такой мелочью, которую она, держава, заметить просто не могла.
Эти деньги были частью вознаграждения за безвозвратное погружение его, Андрея Кононова, в прошлое. Командировочными за пожизненную командировку.
Другое дело – вернуть деньги за умыкнутое в универмаге продавцам. Совершенно конкретным людям. Людям, а не безликому и бесполому государству. Это Кононов собирался сделать в самое ближайшее время. Только сначала нужно поесть, купить светлую (непременно!) рубашку, галстук и пиджак и сфотографироваться на паспорт – в другой одежде фотографироваться не положено. Потом заказать этот паспорт у мастера по подделке документов – и такой адресок любезно предоставил Сулимов – и отправиться, наконец, выполнять задание, ради которого и было затеяно все это путешествие в один конец. По этакому анизотропному шоссе.
Ближайшая столовая, насколько Кононов помнил, находилась кварталах в трех-четырех от кладбища, напротив старого (пока еще единственного) здания полиграфкомбината. Туда он и направился, продолжая вживаться в образ этакого нувориша, богача-скороспелки, и строя разные увлекательные планы относительно использования своего солидного «капитала».
В столовой пахло пережаренным луком и еще чем-то не весьма аппетитным, в пыльные окна, завешенные поблекшим от солнца тюлем, с жужжанием бились мухи. Народу там было немного, человек десять-двенадцать, сплошь потрепанного вида мужики неопределенного возраста, и не макаронами они лакомились, и не овощными салатами, и не яичницей, а распивали дешевое плодово-ягодное вино местного, калининского разлива с простым и гордым народным названием «гнилушка». Завтракать в такой компании Кононову не хотелось, но выбирать было не из чего – до проникновения в эти земли зарубежных макдональдсов оставалось еще очень много лет. Имелись, конечно, в Калинине и рестораны, но, во-первых, они открывались позже, а во-вторых – какой же обычный советский гражданин пойдет поутру в ресторан?
Набрав на поднос всякой еды, Кононов расплатился, разменяв первого «ильича», и устроился за столиком в углу, подальше от пробавляющихся вонючим плодово-ягодным вином, громко матерящихся мужиков. Он уже почти управился с салатом, когда один из участников утреннего возлияния встал, с грохотом отодвинув стул, и нетвердой походкой направился к выходу, и Кононов невольно обратил внимание на его визави по столику, до того закрытого спиной удалившегося клиента. Это был длинноволосый парень в светлой безрукавке, и, в отличие от других, перед ним не стоял стакан с «гнилушкой». Парень сидел неподвижно и очень прямо, убрав руки под столик, и смотрел в одну точку, словно пребывал то ли в трансе, то ли в коме, то ли в еще каком-то неестественном для человеческого организма состоянии. Парень сильно напоминал кого-то, и, порывшись в памяти, Кононов вспомнил, что очень похожего субъекта видел при последнем визите в свою квартиру, в не наступившем еще две тысячи восьмом году. Впрочем, лицо того обкурившегося или обколовшегося Кононов представлял себе уже довольно смутно, и внимание его привлекло, пожалуй, не портретное сходство, а сходство позы и состояния.
«Это ж надо, – подумал он. – Наверное, есть типы, общие для любых времен. Пребывающие в почти перманентном ступоре вследствие злоупотребления...»
И принялся за шницель с гарниром из слипшихся макарон, сдобренных вызывающей изжогу подливой.
Но что-то в душе возникло, какая-то шероховатость – и не собиралась исчезать.
Кононов сидел на верхней палубе речного «трамвая», привольно раскинув руки на спинке скамейки и подставив лицо под жаркое послеполуденное солнце. В мерное тарахтение двигателя то и дело врывались пронзительные крики чаек. Сидя вот так, с закрытыми глазами, ощущая порывы приятного волжского ветерка, без всякого труда можно было представить, что ему не сорок, а тринадцать лет, и катер везет его вместе с другими пацанами и, конечно же, девчонками, в пионерский лагерь «Луч», на вторую смену. Под скамейкой стоит старый, мамин еще, коричневый чемодан с одеждой, красным галстуком «из скромного ситца», пакетом с печеньем и конфетами и запрятанной на самое дно, в носок, купленной украдкой пачкой сигарет. А в другой носок завернута колода карт – весьма существенный атрибут пионерлагерного быта. Далеко позади, за Старым мостом и Новым мостом, привезенным после войны из Ленинграда, с Невы, остался речной вокзал, осталась мама – она со своими старшеклассниками отправляется в поход по Верхневолжью. А папа уехал к своей родне, в Удмуртию, – у них там какие-то сложные отношения...
Кононов открыл глаза. Да, это был, кажется, тот самый речной «трамвай» его детства, только не сновала по палубе, не скакала по трапу вверх и вниз неугомонная пионерская пацанва, не летели в серо-сине-зеленую волжскую воду конфетные фантики и бутылки из-под лимонада – немногочисленные пассажиры, направлявшиеся в Отмичи, Кокошки и еще куда-то дальше, были людьми взрослыми и вели себя солидно. Вдоль одного берега тянулся бесконечный забор вагонзавода, другой был усеян крупноблочными пятиэтажками, доходящими чуть ли не до военного аэродрома Мигалово, окруженного густым сосновым лесом. Где-то в одной из этих пятиэтажек играла в куколки трехлетняя Таня Шияненко, с которой он танцевал на палубе этого – или очень похожего на этот – катера, возвращаясь из пионерского лагеря. Тогда по высокому берегу мчались, провожая их, деревенские мальчишки на велосипедах, и тянулись из-под колес пыльные шлейфы, и звучала над палубой музыка из динамиков, и они все вместе подпевали жизнерадостному певцу, чей голос летел над покачивающимися на воде бакенами, над длинными медлительными баржами и резвыми моторками.
Я видел Каир и бродил по Парижу,
С Балкан любовался дунайской волной,
Но сердце забьется, когда я увижу
Калинин, Калинин – мой город родной.
Прекрасны дворцы и булонские парки,
Волнуют, волнуют и радуют глаз,
Но старый рабочий район «Пролетарки»
Милей и дороже мне в тысячу раз.
Третий куплет он уже подзабыл, но две последние строчки из памяти никуда не делись: «Я верю, ты станешь красивей Парижа, Калинин, Калинин – мой город родной...»
Ознакомительная версия.