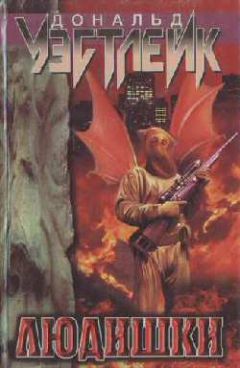«Я хотела бы заниматься чем-то творческим», сказала она завистливо в одном месте разговора. «Но не думаю, что во мне это есть.»
«Творчество — это что-то вроде цвета кожи. У каждого немного есть.»
Она печально скривила рот. «Но не у меня.»
«Я научу вас рисовать, если хотите. В следующий раз я принесу альбом для этюдов и карандаши.»
Она провела указательным пальцем но ножке бокала. «Было бы хорошо… если вы вернетесь.»
«Вернусь», сказал я ей.
«Не знаю», сдержанно сказала она, потом выпрямилась, ровно сидя на краешке дивана. «Я вижу, вы не думаете, что отношения между нами могут быть естественными.»
Я начал уверять, но она прервала меня, сказав: «Все правильно. Я понимаю, это странно для вас. Вы не можете признать, что я естественна.» Она на секунду задержала глаза на моем лице, потом опустила взгляд на свой бокал вина. «Иногда и мне это тяжело принять, но я принимаю, понимаете.»
Я подумал, она говорит о том, что подверглась операции, но из-за того, что она говорила с искренним убеждением, а не с чуть отдающим истерией вызовом тюремной шлюхи, вопреки всякой логики я подумал, что, может быть, она говорит правду и является женщиной в истинном значении этого слова. Она поднялась на ноги, обошла кофейный столик и встала лицом ко мне. «Я хочу показать вам», сказала она. «Вы позволите мне показать вам?»
Смесь застенчивости и соблазнительности, которую она демонстрировала, выскальзывая из платья, была совершенно естественной, приводя на ум женщину, которая знает, что красива, однако не уверена, что красива достаточно, чтобы угодить новому мужчине, и когда она встала нагой передо мной, я не смог вспомнить ни единого сомнения в ее женственности, на все мои вопросы было отвечено высокими, маленькими грудями и длинными ногами, растущими из молочного закругления живота. Она казалась белым доказательством чувственного абсолюта, и единственная мысль, что отделилась от безрассудства желания, была той, что она может стать центральной фигурой моей фрески.
В течении последующей ночи, ничего, что делала Бьянка, не возбуждало мои критические способности. В голове моей не было жердочки, на которой часть моего разума стояла и наблюдала. Ночь походила на все добрые ночи, что проводишь с новой любовницей, была насыщена нежностью, неловкостью и напряженностью. Все следующие ночи пять недель подряд я проводил с нею, обучая ее рисовать, разговаривая, занимаясь любовью, и когда находился в ее компании, не возникало никакого скептицизма, относительно правоты наших отношений. Скептицизм, угнетавший меня, когда мы расставались, питался теми изменениями, которые знакомство с ней принесло в мою работу. Я пришел к пониманию, что фреска должна воплотить динамический вертикальный прогресс от тьмы и прочности к яркости и исчезновению. Нижние фигуры должны быть, как мне представлялось, тяжелыми и стилизованными, но те, что вверху, требовали изобразить себя импрессионистически, становясь постепенно все менее и менее определенными, пока в самом куполе, в Сердце Закона, они не превращались в создания света. Я переделал общий план соответственно и принялся за работу с возобновленным пылом, хотя и не отдавал работе столько часов, как прежде, стремясь каждую ночь вернуться к Бьянке. Не могу сказать, что я пренебрегал аналитической стороной своей природы — я продолжал размышлять о том, как она стала женщиной. При исследовании ее тела я не обнаружил хирургических швов, ничего, что намекало бы мне о насильственных процедурах, что были бы необходимы для произведения трансформации, а в ее личности я не ощущал никаких мужских дефектов. Она была, во всех смыслах слова, в точности тем, чем казалась: молодой женщиной, которая, хотя и экспериментировала с мужчинами, сохраняла определенную невинность, которую, как мне верилось, уступила мне.
Когда я упомянул Бьянку Кози, тот сказал: «Ну, видишь, я говорил.»
«Ага, говорил. А откуда они взялись?»
«Перышки? Есть упоминания в архивах, но какие-то смутные.»
Я попросил его рассказать поподробнее, и он сказал, что знает, что критерии, по которым перышек считают пригодными для Алмазной Отмели, отличаются от прилагаемых к остальной части популяции. Процесс, которым они входят в тюрьму, тоже другой — они называют его Таинством, и в архивных материалах есть намеки, что оно включает в себя некое магическое превращение. Никто из перышек не обсуждал этот вопрос иначе, как только очень туманно. Казалось, это напоминает патологические мифы, которыми теремные королевы оправдывают свою женственность, но я отказался, чтобы это пятнало мои мысли относительно Бьянки. Наши жизни переплелись столь легко, что я начал смотреть на нее, как на своего компаньона. Я понимал, что если планы моего побега забронзовеют, мне придется покинуть ее, но вместо того, чтобы использовать это как предлог для отступления, я решил узнать ее более глубоко. Каждый день выводил на свет некоторые новые грани ее личности. Она обладала спокойным разумом, которым пользовалась с такой тонкостью, что я иногда осознавал только потом, что она дразнила меня; и она обладала упорной жилкой, которая, в комбинации с ее даром логики, превращала ее в грозного оппонента в любом споре. С особым жаром она защищала утверждение, что Алмазная Отмель утверждает основную идею, на которой произрастает форма человеческого мира, проявляющаяся ныне, как она любила заявлять, по загадочным, но в конечном счете благотворным причинам.
В разгар одного из таких споров она расстроилась и сказала: «Ты не то чтобы нонконформист, похоже, что ты практикуешь нонконформистские мысли, чтобы расстраивать всех остальных. Это ребячество!»
«Неправда!», ответил я.
«Я серьезно! Это похоже на твое отношение к Эрнсту.» Книга картин Макса Эрнста, одна из многих книг по искусству, что она нашла в библиотеке, лежала на кофейном столике — и она гневно постучала по ней. «Из всех книг, что я принесла, эта нравится тебе больше всего. Ты листаешь ее все время. Но когда я говорю тебе, что считаю его великим, ты…»
«Да он хуевый писака плакатов.»
«Поэтому ты смотришь на его работы каждую ночь?»
«Он легок для глаза. Но это не значит, что он чего-то стоит. Это просто означает, что его работы умиротворяют.»
Она удрученно покачала головой.
«Да и в любом случае, мы говорим не о Максе Эрнсте», сказал я.
«Неважно, о чем мы говорим. Любая тема одинакова. Я тебя не понимаю. Я не понимаю, почему ты здесь, в тюрьме. Ты говоришь, что причина, толкнувшая тебя на преступления, это твои проблемы с властью, но я не вижу в тебе этого. То есть, это присутствует, мне кажется, но не выглядит столь значительным. Я не могу представить тебя совершающим преступления только потому, что ты хочешь плюнуть в лицо власти.»