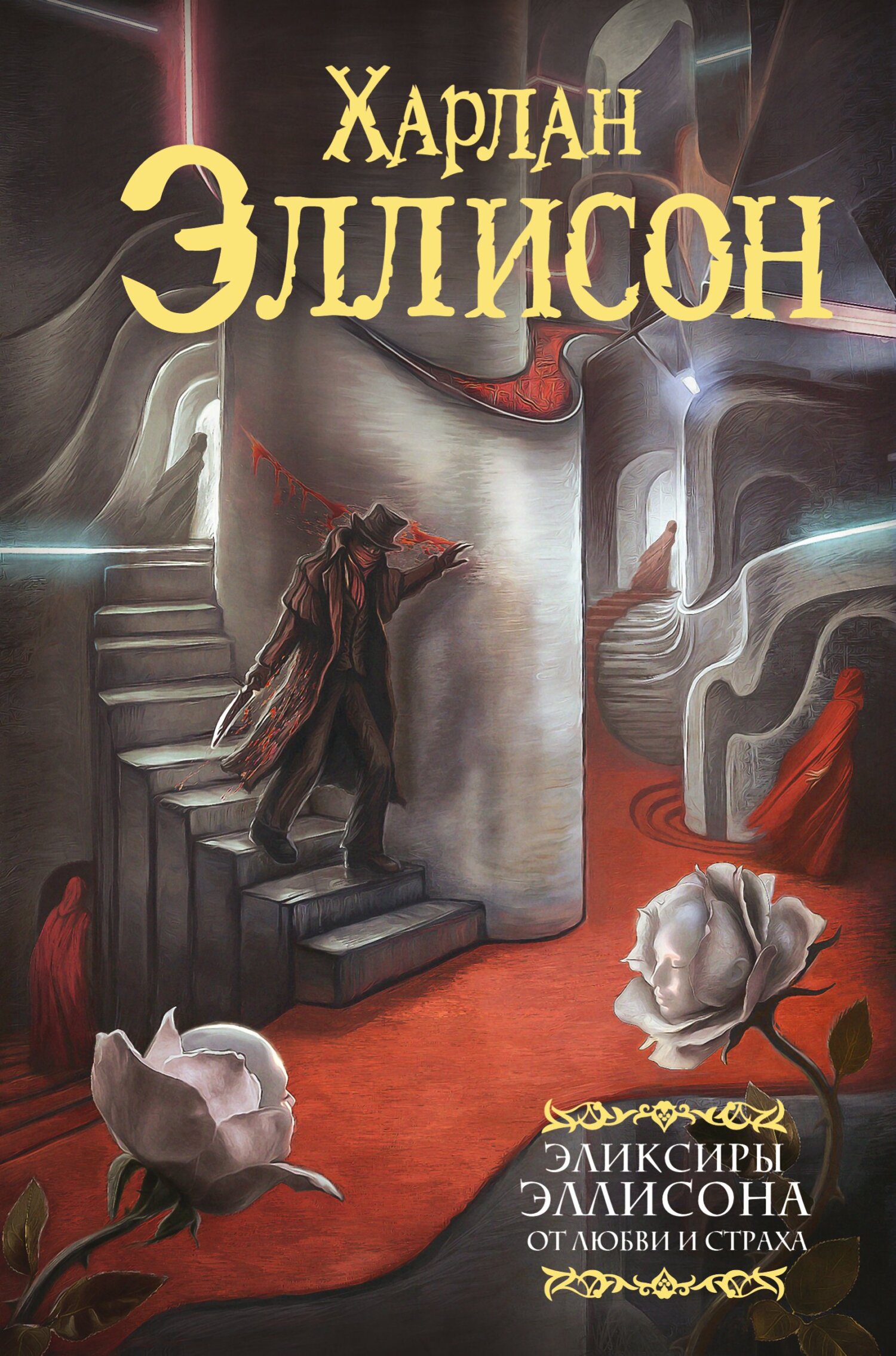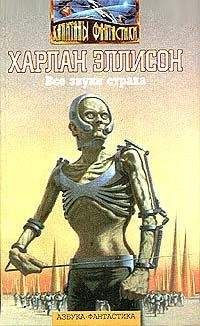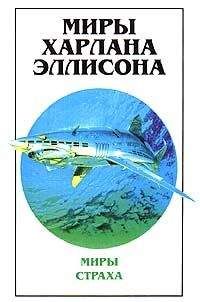в том, что он упивался жалостью к самому себе, и она знала это. А знание это помещало его в категорию мужчин, которые никак не подходят для серьезных отношений.
Она снова посмотрела вниз. Выжидая. Дразня. Стройная девушка, с волосами янтарного цвета и серыми, цвета алюминия, глазами. Она слегка согнула пальцы, словно готовясь опустить их на клавиатуру. В сознании ее жила одна лишь музыка.
– Говорят, Бех великолепно выступил в Штутгарте на прошлой неделе, – сказал Ирасек, надеясь вовлечь ее в беседу.
– Он играл Крейцерову сонату?
– И шестую симфонию Тимияна. И Найф. Плюс Скарлатти на десерт.
– Что именно?
– Не знаю. Мне говорили, но я не помню. Ему аплодировали стоя целых десять минут, и в журнале «Der Musikant» писали, что такой орнаментики им не доводилось слышать со времен…
Свет в зале начал медленно гаснуть.
– Сейчас он выйдет, – сказала Рона, подавшись вперед. Ирасек снова откинулся на спинку кресла и откусил половину шоколадного батончика.
…Когда он выходил из оцепенения, все всегда было серым. Цвета алюминия. Он знал, что его уже распаковали и подзарядили. Знал, что, когда он откроет глаза, рабочий сцены будет готов выкатить ультраклавесин на сцену, а проводящие перчатки будут в правом кармане его фрака. И вкус песка на языке, и серый туман воскрешения в сознании.
Нильс Бех медлил, не спеша открыть глаза.
В Штутгарте был просто ужас. Но лишь он сам понимал, как ужасно все было. Он подумал: «Тими понял бы сразу. Он поднялся бы на сцену еще во время скерцо, сорвал бы перчатку с моей руки и проклял бы меня за то, что я изуродовал его детище, его шестую». А потом они отправились бы выпить по кружке темного пива.
Но Тимиян умер. В двадцатом, напомнил себе Бех. «За пять лет до меня. Если бы я мог больше не открывать глаза, перестать дышать, заставить легкие втягивать воздух маленькими глотками, а не гудеть, как меха старого органа… И они решили бы, что я сломался, что рефлекс зомби на сей раз не сработал… Что я все еще труп, настоящий труп, а вовсе не «мистер Бех»… Он открыл глаза.
Продюсер был явным подонком. Бех хорошо знал этот тип.
Небритая физиономия. Мятые манжеты. Скрытый гомосексуалист. Тиранит всех вокруг, кроме мальчиков из хора…
– Я знал людей, у которых развился диабет от частых посещений детских утренников. Слишком много сладкого – опасная штука.
– Что? Простите, я не понял.
Бех отмахнулся от него.
– Пустяки. Забудьте. Как зал?
– Превосходно, мистер Бех. Огни уже погасли. Можем начинать.
Бех сунул руку в правый карман фрака и достал электронные перчатки с сияющими рядами минисенсоров. Он натянул правую перчатку, разгладил все складки. Ткань облегала кисть словно вторая кожа.
– Когда будете готовы… – сказал он.
Рабочий выкатил инструмент на сцену, зафиксировал ножки и поспешно скрылся за кулисами.
Бех шагал неспешно и очень осторожно: внутри его икр и бедер протянулись трубки со специальной жидкостью, и если бы он шел слишком быстро, гидростатическое равновесие нарушилось бы, и питательная жидкость не успевала бы поступать в мозг. Проблема ходьбы была для воскрешенного лишь одной из множества неприятных вещей.
Дойдя до антигравитационной площадки, он сделал знак продюсеру. Помятый негодяй махнул рукой оператору, и тот пробежался пальцами по разноцветным кнопкам, после чего антигравитационная панель поднялась медленно и торжественно. На сцену ступил Нильс Бех. Публика разразилась аплодисментами. Он молча, склонив голову, принимал их приветствия. Пузырек газа пробежал по трубке в спине и лопнул. Нижняя губа Беха слегка дрожала. Усилием воли он подавил дрожь. Затем сошел с панели, на которой стоял, подошел к инструменту и начал натягивать левую перчатку.
Высокий элегантный мужчина, неестественно бледный, с выдающимися скулами, крупным носом, неожиданно мягкими глазами и тонкими губами. Он выглядел очень романтично. «Важнейшее качество для музыканта», – говорили ему в юности, когда он только начинал. Миллион лет назад.
Едва он надел и разгладил перчатку, как сразу же услышал шепот. Слух у мертвецов невероятно чувствителен. Потому им так больно слушать собственную музыку. Но он знал, о чем шепчутся в зале. Какой-то господин говорил жене нечто вроде:
– Конечно, он не похож на зомби. Его держат в морозильнике и оживляют на время концерта.
И жена спрашивала:
– Но как это возможно? Постоянно возвращаться к жизни? Что это?
И муж наклонялся к ней, к самому уху, прикрывая ладонью рот, осматриваясь и убеждаясь, что их никто не подслушивает, и говорил об остаточных электрических зарядах в клетках мозга, о двигательных посмертных рефлексах, о длящейся способности к механическим движениям, чем и пользуются хозяева таких зомби. В самых общих чертах он рассказывал жене о встроенной системе жизнеобеспечения, питающей мозг. О заменителях гормонов и о препаратах, заменяющих кровь.
– Тебе ведь известно, что, если у лягушки отрезать лапку и пропустить через нее электрический ток, лапка задергается. Это называется гальваническим рефлексом. А если пропустить ток через мертвое тело человека, оно задергается, то есть, не задергается, но сможет ходить, играть на музыкальных инструментах…
– А думать он сможет?
– Наверное. Я не знаю. Мозг работает, главное, не допустить умирания мозга. Все остальное выполняет чисто механические функции: сердце служит насосом, вместо легких мехи, к нервным окончаниям подведены проводки, и готово, запускаем, тут-то и происходит искусственный всплеск активности, конечно, не больше пяти-шести часов, после этого от усталости накапливаются яды, но пять-шесть часов для концерта более чем достаточно…
– Значит, они попросту берут мозг человека, и поддерживают жизнь мозга, используя его собственное тело как машину жизнеобеспечения, – говорит сообразительная жена, – верно? Вместо того, чтобы поместить мозг в какой-нибудь ящик, они оставляют его в черепной коробке, а вся механика находится внутри тела?
– Именно. Именно так. Более или менее так. Более или менее.
Бех перестал обращать внимание на шепот. Он слышал это сотни раз, в Нью-Йорке и Бейруте, Ханое и Кносе, в Кеньятте и Париже. Их всех это страшно интересовало.
Так зачем они приходят? Услышать музыку или увидеть ходячего мертвеца? Он сел за инструмент и положил руки на металлические волокна. Глубокий вдох – по старой привычке. Пальцы уже подергивались. Прессоры искали клавиши. Под седым коротким ежиком синапсы уже щелкали как реле.
Ну что ж, начинаем. Девятая соната Тимияна. Пусть воспарит музыка! Бех закрыл глаза, приподнял плечи, и из кольца звуковых колонок над его головой прозвучали торжественные ноты, сплетаясь в чудесную мелодию.
Вот так. Начали. Легко, без малейших усилий Бех погружался в гармонию. Пальцы его порхали по клавишам. Он не играл Девятую уже два года. Последний раз это было в Вене. Два года – много