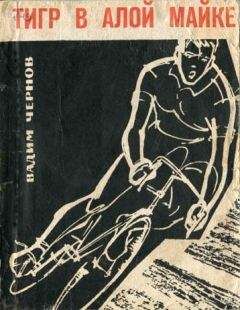- Семен, прекрати балабонство, - Ковригину стал надоедать этот фарс.
- Паша, предоставь это дело мне. Все будет в самом лучшем виде. Анна Ильинична, милая, конечно же вы кладезь нужной информации. Я своему другу плохого не посоветую, - и в сторону Ковригина: - Кстати, Паша, возьми на заметку, в который раз говорю тебе это, - снова медсестре: - И для начала, Анна Ильинична, ему хочется побольше узнать о вашем знаменитом Найденове. Эти сведения, - он понизил голос, - могут стать ядром всей будущей книги, составить ее, так сказать, центр притяжения. Ведь согласитесь, многоуважаемая Анна Ильинична, что все события в городе сейчас вертятся вокруг синей эпидемии, трагически разразившейся в наших краях, а ваш, так сказать, пророк Иеремия каким-то образом замешан в этом деле. А? Что скажете?
- Ну, я право не знаю, как он может быть замешан в эпидемии. Но что ему что-то известно, это точно. До этого-то он лет пять молчуном был - ни слова не говорил, а тут, как раз в начале эпидемии заговорил, да так, что всех удивил и напугал. Да и не только врачей и сестер. О нем уже и в городе знают - болтают-то разное, все больше придумывают. Уж не знаю, кто эти глупости распространяет, но правда в них тоже есть, это уж точно, - она перестала смущаться Ковригина и теперь доверительно рассказывала ему все, что знала об этой истории. А знала она много - недаром сама была одной из движущих ее сил, одним из ее центров, к которому стягивались многие нити.
Ковригин терпеливо слушал в течение сорока пяти минут ее излияния, стараясь отделять интересные и нужные сведения от словесного сора, которым Анна Ильинична щедро разбавляла свою речь. Иногда задавал ей вопросы, но больше молчал и заметно мрачнел по мере узнавания подробностей этой странной и невероятной истории. Когда она кончила, он задал ей последний, осторожный вопрос:
- А скажите, Анна Ильинична, может кто-нибудь из персонала больницы распространять по городу заведомо ложные слухи о вашем больном?
- Да что вы, Господь с вами! Нет у нас таких извергов. Медицинская этика для того и придумана... О пациентах говорят либо правду, либо ничего. Но и запрет рассказывать на стороне о больных не очень-то строг. Да я и сама дома своим часто рассказываю... Какой-нибудь интересный случай или редкие симптомы. Свекровь моя, - она разоткровенничалась, - очень уж любит слушать про разные истории болезни. И про Найденова тоже. Как не рассказать, если он такие загадки задает. Но только чистую правду, я поклясться могу. А тем, кто глупости эти по городу пускает, надо промывание мозгов сделать... - она помолчала. - Да ведь знаете, людей тоже понять можно. Напуганы все синькой проклятой. А тут у нас такое творится, - она посмотрела на часы и всполошилась: - Ой, да что же это, заговорилась я с вами, а мне работать надо. Побегу я. Всего вам хорошего, - и уже из коридора прокричала: - Если вам что еще понадобиться, приходите, милости просим.
- Жуткая история, а, Паш? - для Семена все сказанное Анной Ильиничной стало не меньшим откровением, чем для Ковригина. Он тоже что-то сосредоточенно обдумывал во время ее рассказа и даже побледнел от напряжения.
В этот момент в комнате раздался протяжный стон - подал признаки жизни другой обитатель палаты. Все это время он лежал молча, с закрытыми глазами, теперь же сидел, обхватив голову руками.
- Голова моя, голова...- жалобно протянул он.
Семен кивнул в его сторону и сказал Ковригину:
- Познакомься, это Алик. Третьего дня сюда вселился. Оч-чень интересный случай в психиатрии. Он слышит в своей голове какую-то неземную, волшебную музыку и мучается от того, что не может ее записать, передать ее звучание другим, потому что в жизни не держал в руках ни одного музыкального инструмента. Представляешь, каково ему, бедняге, - музыка просится из него наружу, а он не может дать ей выхода из-за какой-то малости, из-за того, что не знает нот.
- Да, музыка! - Алик смотрел на них измученными глазами. - Я слышу ее нежные переливы, ее небесное звучание - но только я, больше никто! - в его голосе слышалось отчаяние. - Я не могу дать ее людям, о, эта музыка высших сфер, она убьет меня!
Семен насмешливо посмотрел на Ковригина.
- Его пичкают успокоительным и снотворным, а ему нужен всего-навсего учитель музыки, чтобы помог разродиться. Замуровывать в себе дух искусства и огонь творчества это, Паша, чревато большим пожаром, тебе не кажется?
- Может быть. Но не у всех есть возможность дать надежный и безопасный для себя выход этому огню. В некоторых он настолько силен, что в любом случае превратится в пожарище. Пример можешь увидеть в зеркале. Иногда ему действительно лучше не делать преград. Тем более, что и затушить не удастся, - он кивнул в сторону Алика. - В моем же случае, на который ты столь любезно намекаешь, этот огонь лучше не выпускать вовсе, как старого, злобного джинна из бутылки - не только не скажет спасибо, но еще и задушит, как цыпленка.
- Задушит, - согласился Семен. - Но до этого ты успеешь дать миру что-то новое, что-то прекрасное, может даже гениальное или бесстыдно-талантливое. Для чего жалеть себя, для кого беречь? Все одно помирать, так не все ли равно - позже или раньше.
- Если бы мне сказали: выбирай - мгновенную смерть или долгую жизнь в адских муках творчества, - я выбрал бы первое, - спокойно, даже равнодушно реагировал на возбужденные речи Семена Ковригин, - даже если бы мне предложили все почести мира, славу и богатство. Кончилась бы эта жизнь все тем же - четырьмя стенами палаты и зарешеченным окном. По крайней мере для меня. Тебя ждет другой конец. Хуже он или лучше - судить не мне. Но я свой выбор сделал.
- Как знаешь, - пожал плечами Художник. Он вдруг потерял интерес к беседе и снова взялся за карандаш.
- Не обижайся, Семен. Я говорил тебе - каждому свое. Я, пожалуй, пойду. Будь здоров, - Ковригин поднялся с кровати и вышел из палаты.
Задумчиво спускаясь вниз по лестнице, он бормотал себе под нос:
- Один хочет, но не может, другой и хочет, и может, а я вот могу, но не хочу. Что ж в этом странного? - но затем, вспомнив о чем-то и обозвав себя кретином, он резко повернул обратно наверх.
* * *
Пройдя по этажу, Павел отыскал палату № 215 и остановился перед ней, пытаясь справиться с нервной дрожью. Он посмотрел по сторонам - коридор был пуст, за дверью тоже стояла тишина - не раздавалась ни звука. Он осторожно взялся за ручку, открыл дверь и вошел внутрь.
Прямо, посреди палаты лицом к нему стоял человек в сером халате. Ковригин сразу же узнал его - это было то самое его ночное видение в окне, залитом лунным светом. Только сейчас в глазах человека не было мольбы. Вместо нее в его взгляде ясно читалась ненависть - ненависть пополам со страхом, который никогда не исчезал из его выразительных глаз. Ковригин внезапно понял, чего боится этот человек. Он боится людей, нарушающих его одиночество и покой. И ненавидит их в той же степени, в какой боится вмешательства в его жизнь этих враждебных чужаков - людей из другого мира, не похожего на его собственный.