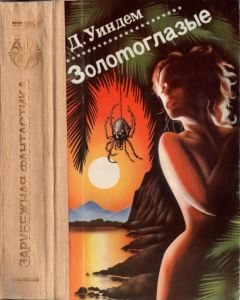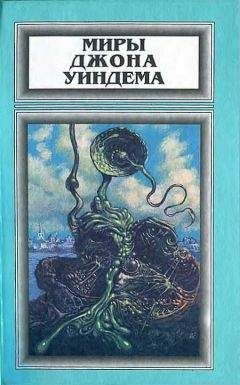Мы томились под зонтиком, а Лесли завел свой обычный репертуар. „О Sole mio“[13] летело сверху.
— Сейчас последует „La Paloma“[14],—застонал я и отхлебнул джин.
— Мне кажется, — сказала Филлис, — пока мы здесь, стоило бы выяснить… Ох, что это?
Со стороны моря до нас донесся ни с чем не сравнимый шум. Мы выглянули в окно и увидели крохотного мальчугана цвета кофе, почти целиком скрытого широкополой шляпой. Он вел упряжку здоровенных волов, за которой визжала, скрипела, скрежетала пустая повозка. Мы обратили на мальчишку внимание еще утром, когда он спускался с гор с повозкой, груженой бананами, даже тогда нам показалось, что это весьма шумно и неприятно, но теперь, когда она шла порожняком, — грохот был несусветный.
С трудом мы дождались, пока волы минуют Плазу, но тут опять послышался голос Лесли. Он уже пел „La Paloma“.
— Мне кажется, — вернулась к разговору Филлис, — надо извлечь из этого Смита все, что можно. Почему бы ему не стать, к примеру, Робин Гудом? Что нам стоит сделать из него такового? А что ты знаешь о старинных парусниках?
— Я?! С какой стати я должен о них что-то знать?
— Любой мужчина почитает за честь разбираться в морских судах, я подумала, что и ты… — Филлис неожиданно замолчала.
Сверху раздался заключительный аккорд „La Paloma“, и Лесли грянул новую песню.
Я сижу в лаборатории,
Раскалился добела.
Ксенобатоинфузория,
Ты с ума меня свела!
Ох, вы атомы ядреные,
Термоядерный утиль!
Что ж вы, неучи, ученого
Подвели под монастырь?
А когда не торопили бы,
Я бы горы своротил,
Некробаротерапию бы
Шаг за шагом воплотил.
Я настроил бы локаторы,
Я бы выждал до утра,
Взмыл бы в небо авиатором,
Жахнул сверху… и ура!
Я бы…
— Бедняга Лесли, — печально сказал я, — посмотри, что с ним сделал этот чертов климат. Рифмовать „лабораторию“ с „ксенобатоинфузорией“! Боже мой, что творится! Какое размягчение мозгов! Извилины плавятся. Пора объявить Бокеру ультиматум. Конкретный срок, скажем, неделя, и мы уезжаем. Иначе нас ждет здесь полное разложение, и мы тоже начнем сочинять песенки с дебильными рифмами. Струны наших душ заржавеют, и в один прекрасный миг мы вдруг обнаружим, что срифмовали „своротил — воплотил“.
— Хорошо… — неуверенно начала Филлис.
За моей спиной раздались шаги и возник Лесли.
— Приветствую. — выкрикнул он. — Самое время пропустить стаканчик, а? Слышал новую песенку? Настоящий шлягер! Твоя жена назвала ее „Жалоба ученого“, но мне больше нравится „Озадаченный ученый“. Что пьем? Джин? — протараторил Лесли и побежал к стойке.
— Итак, — сказал я мрачно, — я говорю — „неделя“ и настаиваю на этом. Хотя и этот срок может оказаться фатальным.
Я оказался более прав, чем думал.
— Любимая, да плюнь ты на эту луну и иди ко мне.
— У тебя нет души. В этом все дело. И зачем я вышла за тебя?!
— Хуже, когда души больше, чем нужно. Посмотри на Лоуренса Хоупа.
— Ты — свинья, Майк! Терпеть тебя не могу.
— Дорогая, уже час ночи.
— На Эскондиде сама жизнь смеется над часовых дел мастерами. Ненавижу тебя, Майк. Милая, милая Диана, забери меня от этого человека!
Я подошел к окну.
— „Корабль, остров, бледная луна…“ — прошептала Филлис. — Так хрупко, так вечно… как прекрасно! Ты только вглядись!
Мы стояли у окна и любовались пустынной Плазой, спящими домами, серебряным в лунном свете морем.
— Как хорошо! Я запомню это навсегда! — Ее дыхание дрожало на моей щеке. — Почему ты не видишь и не слышишь того, что слышу я, Майк? Почему?
— Это было бы так скучно. Представь, мы с тобой хором взываем к Диане. У меня свои боги, Фил.
Она пристально посмотрела на меня.
— Может быть, но их трудно разглядеть.
— Ты так считаешь? А я уверен в обратном. „Кто обращен молитвой к Мекке, а я к твоей постели, Ясмин“ — твой любимый Флекер, дорогая.
— Ну, Майк!
И тут со стороны моря до нас долетел крик. Затем еще и еще. Завизжала женщина…
— Майк, неужели…
Крики, выстрелы…
— Это они, Майк, они!
Шум нарастал. Люди высовывались из окон, спрашивали друг друга, что происходит. Какой-то мужчина выскочил из дверей, завернул за угол и понесся к морю.
— Эй, Тед! — закричал я и забарабанил в стену. — Вруби прожекторы внизу, что у моря. Даешь свет, старина!
Я расслышал слабое „о'кей“. Вспыхнули прожектора, но ничего необычного не было видно, только десятка два мужчин спешили к гавани.
Внезапно на несколько секунд шум стих. Хлопнула дверь Теда, и в коридоре отчетливо прозвучали его шаги. Затем опять плач, вопли, еще громче, еще надрывнее, чем раньше, будто во время паузы тишина набиралась сил, чтобы в следующее мгновение взорваться.
— Я должен… — начал я и замер, не обнаружив рядом с собой Филлис.
Филлис закрывала дверь на замок.
— Я должен быть там…
— Нет, — отрезала она, загородив собой дверь.
Филлис была похожа на разгневанного ангела, если, конечно, не учитывать, что ангелов обычно изображают в пристойных одеяниях, а не в гипюровых ночных сорочках.
— Но, Фил, — взмолился я, — это же моя работа. Мы здесь именно для этого.
— Плевать.
Она не сдвинулась с места, только ангел превратился в маленькую капризную девочку. Я протянул руку.
— Фил, пожалуйста, отдай ключ.
— Нет, — коротко сказала она и швырнула ключ в окно.
Он монеткой звякнул о булыжник. Ошеломленный, я посмотрел ему вослед. Как это не похоже на Филлис.
По залитой светом площади проносились спешащие к морю люди. Я снова повернулся к двери.
— Отойди. Будь добра, отойди.
— Не глупи, Майк. Не забывай о главном.
— Это как раз то…
— Нет, не то! Ну как ты не понимаешь?! Все, что мы знаем о Них, мы знаем не от тех, кто сломя голову бросился выяснять, что случилось, а от тех, кто спрятался или убежал.
Я был зол. Но не до такой степени, чтобы справедливость ее слов не дошла до меня.
— Фредди, — продолжала Филлис, — говорил, что мы обязаны вернуться и рассказать обо всем, что увидим.
— Все это хорошо, но…
— Нет! Взгляни, — она кивнула на окно.
Все это напоминало кино, которое прокручивают в обратную сторону: толпа, огромная толпа, пятилась, как гигантский рак, пока не заполнила площадь.
Филлис покинула свой пост и присоединилась ко мне. Прямо под нами проскочил Тед с переноской в руках.