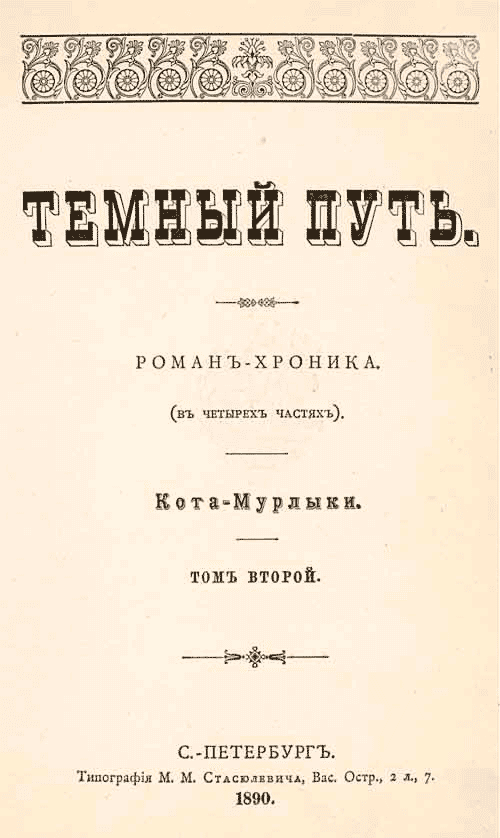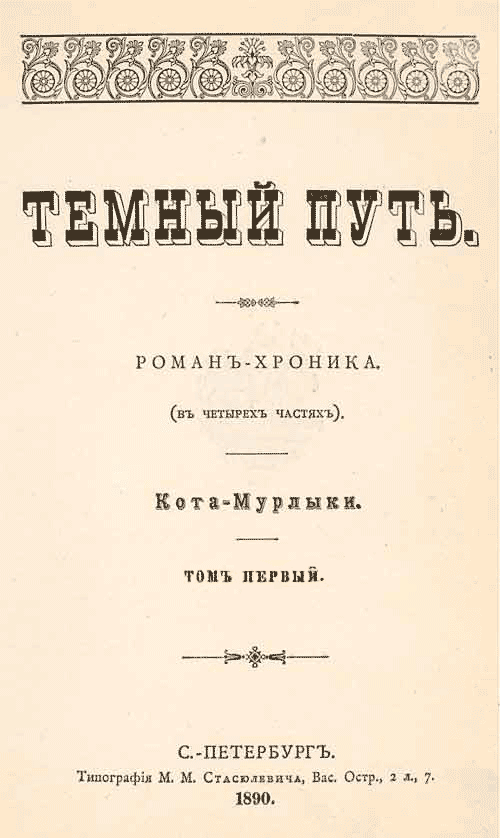что я невольно крепко пожал ее руку и крепко прижал ее к груди, когда мы отправились в путь. Эта привилегия водить ее на прогулки давно уже принадлежала мне.
Сзади сонно выступал Серьчуков с шалью Серафимы, с сетью, переброшенной через плечо, и карабином за спиной.
Вечер был необыкновенно душен, цикады и стрекозы кричали оглушительно. Какая-то тонкая мгла, не то пыль, не то дым, поднялась на высоты и наполнила горный воздух.
К ночи обыкновенно чувствовался легкий свежий ветерок, необыкновенно приятный, но Серьчуков при его появлении всегда кутал Серафиму.
На этот раз никакого движения в воздухе, он словно замер в душной неподвижности и весь был напитан каким-то пряным ароматом от мелких цветущих трав, которые покрывали все холмы.
Заря еще стояла на небе. Она чуть-чуть проглядывала между вершинами гор. Она отражалась на их снегах, а самая вершина неба куда-то ушла в глубокую темную синь, и на этой синеве ярко блестели первые звездочки.
Мы оставили Пьера Серьчукова возиться с его сетью и дудками и отправились в самую чащу кустов. Там было у нас одно излюбленное место, все окруженное, загороженное кустами. Мы уселись подле сломанного чинара, с искривленными уродливыми ветками.
Я помню, мы сидели несколько времени молча в этом душном, ароматном воздухе.
— Знаете ли, что я думаю? — спросила Серафима, смотря в самую глубь потемневшего неба, на едва заметную звездочку. — Я думаю, в небе много миров и каждый из них составляет часть какой-нибудь семьи, какой-нибудь планетной системы. Отчего же между людьми есть одинокие существа, у которых нет ни семьи, ни привязанности?
Она тяжело вздохнула и начала обрывать траву, которая росла у ее ножек, обутых в элегантные атласные светло-серые ботинки.
— Вы напрасно так думаете, — сказал я. — Может быть, у вас нет симпатий ни к кому, но вы для меня в этот месяц стали весьма дороги и я на вас не иначе смотрю, как на мою просветительницу и на моего лучшего друга…
Она быстро обернулась ко мне.
— Неужели это правда, Вольдемар!
И она схватила и крепко сжала мою руку. На ее глазах выступили слезинки. Она порывисто придвинулась ко мне и прямо смотрела в мои глаза.
— Вы сами чувствуете, что это правда, — сказал я.
— Благодарю, благодарю вас! — прошептала она и тихо прислонилась к моему плечу. Несколько времени она сидела молча, грудь ее тяжело дышала. — Знаете ли, — заговорила она тихо и грустно, — я выросла одинокой, без семьи, без подруг… Мать была вечно больна, эгрирована… Отца я вовсе не знала и видела только раз, когда меня привезли к нему, умирающему. Гувернантки, учителя… Ни подруг, ни родных, ни близких… Все холодно… И я стала холодной… не люд…
Она не смотрела на меня, но я чувствовал, как постепенно дрожь ее голоса усиливалась, и наконец он оборвался…
Она крепко, судорожно сжимала мою руку.
— Серафима! — прошептал я.
Она быстро обернулась ко мне. Нижняя губа ее дрожала. Из глаз катились слезы. И в этих глазах было столько грустного чувства, что мне невольно стало жаль ее.
— Серафима! — сказал я. — Отныне и навек вы будете моим истинным, дорогим другом…
В глазах ее появилось столько детской радости, ее лицо сияло такой наивной простотой, доверчивостью, чувством. Это была настоящая грезовская головка, у которой блестящие глаза с такой любовью, так близко смотрели прямо в мои, как будто ждали от меня чего-то.
Я тихо обнял ее и поцеловал.
И я помню, как она вся как бы ослабла под этим поцелуем. Медленно и крепко она обняла меня и прижалась к моей груди своей тяжело волнующейся грудью…
Помню, какой-то внутренний голос шептал мне:
«Отстранись! Отодвинься!»
Но отодвинуться — значило оскорбить ее, так казалось мне тогда, оскорбить то глубокое, беззаветное доверие, с каким она отдавалась этой первой братской привязанности в своей жизни.
И я сидел молча.
Я чувствовал жар, трепет ее тела, горячего, благоухающего, среди душного, ароматного вечера. Кровь невольно начала закипать во мне и, тяжелая, горячая, приливала к голове и сердцу.
Как во сне промелькнула в моем представлении Лена с безмолвным укором… Но я уже не владел собой… Я тихо, трепетно гладил горячую, атласную руку Серафимы, всю открытую, в кисейном, широком рукаве, и наши руки «заблудились», как говорят французы…
Я помню ее бессильную борьбу, ее робкий шепот, помню ее напоминания о Лене, но все это помню как сквозь сон. Ни я, ни она уже более не владели собой…
— Владимир! Серафима Львовна! — раздался вблизи радостный голос Серьчукова. — А я поймал!.. Смотрите-ка!
Мы быстро вскочили, оправились, и я выскочил к нему из-за кустов. Вслед за мной шла Серафима.
Серьчуков действительно поймал большую горную куропатку.
Он крепко держал ее обеими руками, и она тяжело дышала и грустно смотрела на нас своими открытыми, большими, блестящими глазами.
Я помню, что эти глаза тогда напомнили мне глаза Серафимы, когда она обрадовалась моему признанью.
Она подошла к Серьчукову, взяла куропатку у него из рук, крепко поцеловала ее и высоко взбросила кверху. Куропатка быстро улетела.
— Серафима Львовна!.. Что вы делаете?.. — жалобно вскричал Серьчуков…
— Каждый зверь и птица должны радоваться, Пьер Серьчуков… — проговорила она сентенциозно, слегка дрожащим голосом.
— Чему?
— Любви и свободе…
Он отчаянно махнул рукой, а она схватила меня за руку и быстро повлекла дальше.
Пьер Серьчуков, раскрыв рот, с недоумением посмотрел на нас…
Мы пробродили часа два или три. Помню, стала заниматься заря, когда мы вернулись наконец домой.
Помню, что с первых же наших шагов меня накрыл демон раскаяния и начал грызть мое сердце.
«Что же я сделал дурного? — утешал я себя… — И кто из двух нас виноват больше: я или она?.. Ведь сколько есть людей, донжуанов, которые не считают падение преступлением и жуируют жизнью!»
Но все эти утешения плохо действовали. Внутри стоял неугомонный, подавляющий упрек, стоял в виде милого, грустного образа моей дорогой Лены, и мне было невыносимо скверно, тяжело, стыдно и противно…
Но в то же время я смутно чувствовал, что я должен поддержать и успокоить ее, ту, которая отдалась мне с такой пылкой, самоотверженной привязанностью и шла теперь подле меня довольная и любящая.
И мы говорили, болтали как дети; говорили о нашем детстве, о всяком вздоре… Мы крепко сжимали друг другу руки. Мы ходили обнявшись, и наши шаги, речи прерывались поцелуями, в которых (увы!) не было уже ничего братского.
Но настоящая кара началась на другой день, поутру, когда я