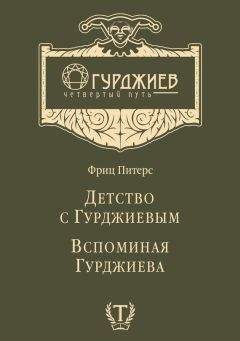Так же скакали звуки.
В яхте же, в спертом и смолистом ее нутре, отчетливо воняло горелым порохом и свежепролитой кровью…
…Штурмфогель испытывал неясное чувство то ли вины, то ли ошибки. Не надо было посылать туда Ханну, подумал вдруг он. Я не хочу, чтобы это была она. Разговаривала бы с этим гадом, принимала его ухаживания… и прочее. У него даже зачесались костяшки пальцев. Он ревновал, как мальчишка.
Уже ничего не сделать. Машина набирает обороты…
До начала операции они немного поспорили с Антоном. Штурмфогелю казалось, что в предложенном плане есть какая-то нарочитость, неестественность. Не лучше ли… и он предлагал другие, более тонкие, на нюансах, на полутонах… «У нас есть время?» – приподняв бровь, поинтересовался Антон, и Штурмфогель подписал капитуляцию.
В качестве Джо использовали настоящего американца, летчика со сбитого над Миланом «Либерейтора». С помощью партизан он добрался до Швейцарии, но в Берне попал к агентам гестапо и по просьбе Ноймана был передан «Гейеру». Его подняли прямо в яхту и застрелили. Что интересно (рассказывал Антон), тело летчика вообще никак не отреагировало ни на подъем, ни на убийство – продолжало себе жрать спагетти с моллюсками и сыром и ждать обещанной переправы во Францию…
«У нас с тобой так не получится», – с сожалением сказал Штурмфогель.
Женева, 13 февраля 1945. 8 часов
– Они отплывают, – сказал Антон и опустил бинокль. – Ханна их уговорила…
Наблюдательный пункт устроен был в мансарде очень старого высокого дома; фасад его выходил в обычный ухоженный тупичок, а тыл на древний крепостной ров; похоже, когда-то это была башня, или часть ворот, или что-то еще, многократно перестроенное, но сохранившее некоторые фрагменты исходного…
– Ты в ней сомневался? – спросил Штурмфогель.
– В ней – никогда. Но я всегда сомневаюсь в слабостях противника. В том, что у противника есть слабости.
– И всегда ошибаешься?
– Нет, было раза два или три… – Он поморщился, как будто на зуб ему попал камушек. – Очень не люблю, когда противник не совершает ошибок.
– Я тоже, – усмехнулся Штурмфогель. – Ну, все. Ждем…
В комнату стремительно вошел Курт:
– Штурмфогель, вас к телефону.
– Берлин?
– Как ни странно, нет. Местный. Кто-то спросил Перзике и назвал правильный пароль.
– Кто бы это мог… – на ходу. – Алло? – в теплую трубку.
– Это Салим. Мы здесь. Оба.
– Но зачем?!
– Так получилось. Расскажу.
– Ясно. Ты звонишь с улицы?
– Да.
– Ты видишь башню с часами?
– Нет. Я ничего не вижу.
– Почему?!
– Я ослеп.
Штурмфогель несколько секунд молчал.
– Салим, а Полхвоста с тобой?
– Примерно. Да. Он не поможет.
– Боже, как же тебя найти?.. Что ты слышишь?
– Шумит вода. Играет музыка – как шарманка…
– Какая мелодия?
– Что-то из «Вильгельма Телля», из середины.
– Музыкальный фонтан. Знаю. Никуда не уходи, я буду через пятнадцать минут!
И Антону:
– Если не успею – плыви без меня. Ты все знаешь.
– Да.
Здесь, в верхней Женеве, у «Гейера» две машины. Мышастый фургон с надписью «Все для тебя, дорогая!» и желтый двухместный спортивный автомобильчик. И Штурмфогель, уже отъехав довольно далеко, соображает, что нужно было взять фургон, потому что агентов-то двое и сам он третий…
Но оказалось, что ошибка была не ошибкой, а опережением. То есть действием правильным, но правота эта в момент свершения действия здравым смыслом отрицалась.
Интуиция…
Возле музыкального фонтана, что на площади Ля Гран, по-турецки сидел слепой. В руках его была деревянная кукла. Он смотрел поверх голов редких в такую рань прохожих и что-то беззвучно произносил белыми губами.
Берлин, 13 февраля 1945. 10 часов
Нойман никогда не видел Гиммлера в таком состоянии. Рейхсфюрер был иссиня-бел; вокруг глаз залегли глубокие тени.
– Зигфрид, – сказал он, глядя мимо Ноймана, – ваши люди работали в Дрездене?
– Да. Да, рейхсфюрер.
– Хоть кто-то из них остался в живых?
Нойман помедлил.
– У меня нет сведений оттуда. Боюсь, что погибли все. Но чудеса еще случаются…
– Что вы искали, Зигфрид?
– Я не знаю. Это была операция отдела внутренней безопасности.
– Не знаете? У меня были другие представления о субординации в вашем отделе.
– Так и было, рейхсфюрер. Но я ввел режим «глухих переборок». И приказал даже мне не докладывать о частностях…
– С чем это связано?
– Есть подозрения на утечку информации из отдела.
– Достоверные?
– Не очень. Но есть.
– Куда утечка? К Мюллеру?
– К Мюллеру – это само собой. Боюсь, что дальше.
– Но через Мюллера?
– Собственно, именно это мы и пытаемся выяснить. Над этим работает один из лучших наших сотрудников, штурмбаннфюрер Штурмфогель. Думаю, через два-три дня мы будем знать все.
– Вот что, Нойман… Предупредите этого вашего Штурм… сотрудника – сугубо секретно, – чтобы даже не пытался разобраться в том, что в тридцать седьмом – сороковом происходило в Дрездене. Понимаете меня?
– Вы хотите сказать…
– Да. Боюсь, что ваши расследования и эта чудовищная бомбардировка связаны самым прямым образом… Геббельс требует расстрелять всех пленных летчиков – сорок тысяч… Мне кажется, иногда этот сноб ведет себя, как глупый злой мальчишка с окраин… вы поняли меня, Нойман?
– Да, рейхсфюрер. Я могу идти?
– Идите. И вот что. Послезавтра я жду вас с кратким докладом по поводу этой… утечки.
Женева, 13 февраля 1945. 12 часов
Яхта ткнулась носом в причал чуть сильнее, чем следовало; Ультиму, стоящую на носу, бросило вперед, но она лишь изящно качнулась, держась за штаг. Она была в тельняшке и матросском берете.
Рекс и Ханна замерли у штурвала – плечом к плечу…
– Прекрасно, – сказал Антон, заметно растягивая «е». Штурмфогель уже обратил внимание, что никого из «Гейера» нельзя было локализовать по акценту. Впервые он услышал какую-то речевую особенность. Откуда он, наш Антон-Хете? Из Риги?
Штурмфогель мысленно нарисовал себе на руке крестик: обращать внимание на те следы акцентов, которые у ребят пробиваются иногда сквозь языковую замуштрованность… Зачем? Зачем-то. Пригодится.
Он вернулся в небольшую затемненную комнату, где сидели Салим и Полхвоста – вернее, то, что от них осталось.
…Нет, там, в Ираклионе, Салим одно дело вроде бы сделал: за Ортвином, похоже, была слежка. Сам Ортвин пробежал наблюдаемую площадь очень быстро, без остановки, не проверившись. А на одном из следующих – и последних – рисунков, которые сделал Полхвоста, изображен высокий полнолицый мужчина в кожаной летчицкой куртке (на двух, мысленно поправил Салима Штурмфогель: вот он стоит и оглядывается с видом праздношатающегося, а вот обходит дом, в который вошел Ортвин…) – и сразу после этого Полхвоста заскулил, сказал, что больше не может, что тот, в ком он сидит там, внизу, бунтует и рвется, и уже все силы уходят только на то, чтобы удерживать его… Салим с трудом выволок Полхвоста из той ямы, которую этот ребенок для себя вырыл (жутковатое зрелище: яма в форме человеческой головы изнутри – с дырой на месте одного глаза; через этот глаз Полхвоста и смотрел наружу…); мальчишка был совсем обессиленный, и они направились было к порту, но тут им навстречу – наверху! – попался тот самый мордатый в летной куртке, которого Полхвоста только что видел внизу…