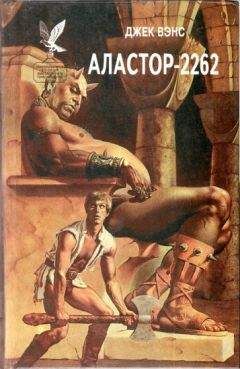— Садись, — он махнул рукой то ли в сторону своего любимого, чуть продавленного, кресла, то ли на жестковатый стул для просителей.
Я не смог определиться с выбором, поэтому вежливо отозвался:
— Я постою.
— Не валяй дурака, — раздраженно буркнул Глава Дома Фииншир. — Садись.
Я пожал плечами и опустился на стул; под его тяжелым взглядом в кресле я чувствую себя неуютно — хочется встать и поправить мундир, которого у меня нет.
Пожалуй, кабинет моего отца заслуживает отдельного разговора; сейчас для него не время и не место, но воспоминания редко выбирают, какими дорогами им стоит прийти.
Когда-то довольно давно какой-то видный политический деятель заметил, что кабинеты стоит делать большими, функциональными и неуютными. Большими — ведь это место, в котором ты проводишь треть своей жизни — а человеку нужно пространство; к тому же работать в беспорядочном нагромождении предметов неудобно. Функциональными — ведь это все-таки работа, и нужно здесь именно работать, а не пить кофе и раскладывать пасьянсы; поэтому здесь должно быть лишь то, что действительно нужно, и ничего более. Неуютными — ведь отсутствие кофейника и кресла-массажера и общая мрачноватость помещения не позволят вам задержаться здесь на всю ночь, что положительно влияет на отношения в семье и общее психологическое состояние.
Моему отцу, впрочем, советы не писаны: он любит говорить, что у него есть своя голова на плечах, и он сам с ее помощью может много что насоветовать. Поэтому в его кабинете климат-контроль, цветы на подоконниках, пастельных цветов обои и замечательное кресло, в котором мне, правда, довелось сидеть всего лишь раз. Словом, с уютом здесь все в порядке. А до отношений в семье ему, похоже, нет никакого дела.
Когда я был еще совсем маленьким, мне нравилось незаметно пробираться сюда и сидеть на очень низких подоконниках, глядя сквозь огромное, почти на всю стену, окно. Почему-то на противоположную стену, с окном нарисованным, с подоконника которого открывался потрясающий вид на старый Париж (бежевый, песочный, мягкий коричневый тона; рисунок сделан с оригинальной фотографии девятнадцатого века, еще черно-белой; сколько стоит эта стена — страшно даже представить) я смотреть не любил. Может быть, я просто не любил Париж. А может — наш парк просто был мне гораздо дороже всяких там парижей.
Все мы в детстве немного философы и совершаем в нашем идеальном мире исключительно правильный выбор; впрочем, с возрастом это проходит.
Отец наконец-то сел (я перевел дух — это на самом деле не так-то просто, смотреть на него снизу вверх); его руки, лежащие на столе, нервно крутили его любимую перьевую ручку для подписей.
— Аластор… я хотел бы поговорить с тобой о Винкл… и о тебе тоже.
Я сделал независимое лицо и пожал плечами. Раньше отец никогда не вспоминал о ней, успешно делая вид, что у него нет несовершеннолетней дочери; мы все также старались не поднимать этой темы, опасаясь отцовского гнева — надо сказать, вполне обоснованно.
Впрочем, сегодня… мой взгляд упал на календарь — на нем по-прежнему стояло двадцать шестое число. Отец отключил автозамену еще года четыре назад — ему нравилось делать это самому.
— А зачем о ней разговаривать?.. — пожалуй, чересчур резко бросил я. — Мне казалось, что вы давно уже все решили.
Отец отложил ручку, сцепил пальцы и посмотрел на меня тем самым пронзительным взглядом, какой я совсем недавно научился выносить.
— Чаю?.. — неожиданно предложил он, доставая из ящика кружку и заварник и добавляя кипятка.
Я кивнул и поднес кружку к губам — пахло вкусно, это был любимый отцом молочный чай.
Некоторое время мы наслаждались ароматом.
— Максималисты, — с понимающей усмешкой, без презрения бросил отец. — В мире есть добро и зло, мир делится на черное и белое, ты хороший, справедливый, а все, кто этого не понимают — плохие и враги… И мир отчего-то кажется вам куда более черным и жестоким… Ничего, Луна мигом выбьет из тебя эту дурь.
Я молчал. Спорить не хотелось; к тому же, объяснять ему, что я давно уже не такой дурак, было совершенно бесполезно.
— Есть вещи, которые не обсуждают ни за столом, ни в коридорах, ни в спальне с супругой; видишь ли, даже здесь, на Корсарии, в нашей вилле, у стен все равно есть уши. И несмотря на то, что большинству из этих ушей я хорошо плачу, иногда — после двух рюмок замечательного рома, очередного пролета в казино или свадьбы любимой дочери — люди становятся разговорчивы и забывают о деньгах… а у меня есть тайны, которые я не хотел бы раскрывать.
Некоторое время он молчал; я смотрел то на мелькающую в чутких пальцах перьевую ручку, то на разгорающийся рассвет — окна отцовского кабинета выходили на местный "восток".
— Сегодня после завтрака, — тихо продолжил он, — мы с Винкл вылетаем в маленький пансионат на окраине Южного Солнца.
— Она не хочет, — быстро сказал я.
— До сих пор?.. — приподнял брови отец, а я подумал о том, что он, пожалуй, был прав насчет ушей.
— По-прежнему.
— Она предпочитает остаться здесь, и…
— Мне кажется, она сама не знает, чего хочет.
Отец горько усмехнулся; я впервые заметил, как много на его лице морщин и какие у него круги под глазами.
— Я поговорю с ней; возможно, она передумает.
Я пожал плечами — мне слабо в это верилось.
— Теперь о тебе. Тридцатого мы с тобой вылетаем на Луну, где ты продолжишь образование. У тебя есть два дня, чтобы определиться с учебным заведением и специализацией. Пожалуй, мы взялись за это слишком поздно… однако, думаю, уже первого октября ты приступишь к занятиям. Попрошу тебя крайне ответственно подойти к этому выбору.
Я молчал. Единственным, что меня интересовало, была кибертехника — но отец не одобрит этот выбор.
— Мне бы хотелось, конечно, чтобы ты занялся галактическим правом… В Высшем Лунном Колледже на факультете юриспруденции до сих пор открыт набор… Впрочем, я, разумеется, не настаиваю.
Я по-прежнему молчал. Я ничего не имел против права — оно давалось мне достаточно легко, гораздо лучше, чем классическая литература и лингвистика, но не увлекало меня. Такое образование — разумеется, при должном усердии, — было весьма полезно и перспективно, но…
Тогда мне не было никакого дела до всяких там специалитетов; я не мог понять, как отец может спокойно говорить об образовании, когда сегодня… сегодня двадцать седьмое сентября.
— Я надеюсь, — безмятежно продолжал отец, — что ты принесешь немало пользы роду Фииншир… К тому же через два года ты войдешь в большой Совет… И… в общем, я рассчитываю, что наши с тобой взгляды на твое будущее не слишком расходятся.