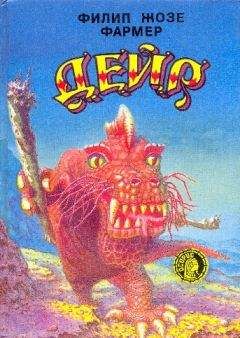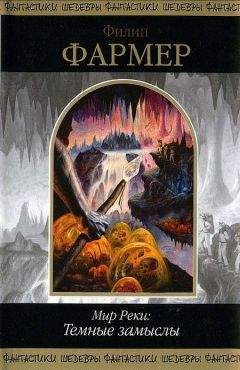— Но разве не правда, — встревает репортер, — что многие художники, обессмертившие свое имя, Ван Гог, например, отвергались современными критиками? А…
Репортер, умело разжигающий гнев критика на потеху публике, внезапно умолкает.
Раскинсон разевает рот беззвучно, как рыба, лицо его синеет от прилившей крови, он близок к удару.
— Но я не равнодушный профан! — наконец прорывает его. — Я ничего не могу поделать, если во времена Ван Гога жили Люскусы! Я знаю, о чем я говорю! Виннеган — всего лишь микрометеорит на небосклоне Искусства! Он не достоин даже чистить обувь светилам живописи! Его репутация раздута, она может светиться только отраженным светом! О, гиены, кусающие кормящую их руку, о, сумасшедшие боги…
Люскус, не слушая больше, берет Чиба за руку и увлекает в сторону, за пределы поля зрения камеры.
— Милый Чиб, — мурлыкает он, — пришло время заявить о себе. Ты знаешь, как я сильно люблю тебя, и не только как художника, но и как человека. Я же вижу, что ты не можешь сопротивляться тем глубоким чувственным вибрациям, которые возникли между нами. Господи! Если бы ты знал, как я мечтаю о тебе, мой прекрасный, богонравный мальчик! О…
— Если ты думаешь, что я отвечу “да” только потому, что в твоей воле возвысить меня или растоптать, то ты ошибаешься, — говорит Чиб. Он мягко вырывает свою руку из потной ладони.
Глаза Люскуса сверкают. Он говорит.
— Ты считаешь, что я принуждаю тебя? Но для этого у тебя нет ни…
— Все дело в принципе, — прерывает его Чиб. — Даже если бы я и хотел твоей любви, я бы не позволил тебе заставлять меня. Я хочу руководствоваться лишь собственным желанием и честью. Я не хочу слышать ни похвалы, ни порицания от тебя или кого-нибудь другого! Смотрите мои картины и говорите все, что вам вздумается, шакалы! Но не пытайтесь заставить меня пресмыкаться лишь за похвалу моего труда!
Хороший критик — мертвый критик
Омар Руник покинул свой пост у статуи и теперь рассматривает картину Чиба. Он положил руку на свою обнаженную грудь, на которой выколоты лица Мелвилла и Гомера. Он с завыванием декламирует стихи, его черные глаза словно дверцы, распахнутые взрывом. Как всегда, он приходит в возбуждение от картин Чиба.
Называйте меня Ахавом, а не Измаилом,
Ибо я поймал Левиафана.
Я — дикий осленок — порожденье человека!
О, мои глаза видели это!
В груди моей — вино, не находящее выхода.
Я — словно море с дверцами на запоре.
Оглянись! Лопнет кожа, сломаются двери!
— Ты — Нимрод, — говорю я Чибу.
Вот он час, когда речет ангелам Бог,
Если это — начало вершения, дальше
Ничего невозможного нет!
Затрубит он в свой рог пред твердыней
Небес и потребует деву Марию — Луну,
Как заложницу, в жены.
И потребует сбавить цену
Сей великой библейской блудницы…
— Остановите этого сукина сына! — кричит директор фестиваля. — Он опять вызовет волнения, как в прошлом году!
В зал входят полицейские. Чиб глядит на Люскуса, который что-то говорит репортеру. Чиб не слышит, что он там говорит, но уверен, что это не комплименты в его адрес.
Мелвилл писал обо мне,
Когда я еще не был рожден.
Я — человек, я Вселенную жажду понять,
Но в привычных себе границах.
Я — Ахав, моя ненависть может пронзить,
Разметать все препятствия времени, иль
Низвергнуть всю смерть и швырнуть
Мою ярость в Созидания Лоно,
Руша в этой берлоге все Силы.
Я — Неясная Вещь В Себе,
Скорчусь там, сохраняя свою
Зыбкую тайну.
Директор делает знак полицейским убрать Руника. Раскинсон все еще продолжает орать, надсаживаясь и багровея, но камеры направлены на Люскуса. Фантастка из Молодого Редиса уже бьется в истерике, вызванной завываниями Руника, в ней просыпается непреодолимое желание мстить всем и вся. Она, как фурия, бросается к репортерам программы “Тайм”.
“Тайм” — журнал уже много лет как прекратил свое существование и превратился в бюро массовой информации, пользующееся поддержкой правительства. “Тайм” — это яркий пример двуличной политики Дядюшки Сэма, политики умывания рук. С одной стороны, правительство снабжает бюро информацией, с другой — разрешает ему использовать ее по своему усмотрению. Итак, здесь объединяются в одно целое, по крайней мере — теоретически, официальная линия правительства и Свобода Слова.
У “Тайма” несколько основных направлений, поэтому правда и объективность могут быть принесены в жертву остроумию. Одной из своих мишеней “Тайм” выбрал научную фантастику Хьюги Уэллс-Эрб Хайнстербери. У нее нет никакой возможности получить персональную сатисфакцию за удары, наносимые постоянными крайне отрицательными отзывами.
Кто на этот раз? Кому это нужно?
Время? Пространство? Материя? Случай?
Ад после смерти или нирвана?
Нечего, нечего думать об этом!
Пушки философов бухают разом
И выпускают снаряды-хлопушки.
В пыль разлетается Храм теологии,
Взорванный диверсантом Доводом.
О, зовите меня Эфраимом, ибо
Встал я у Божьего Брода
Не помог мне язык неуклюжий поэта
Войти в царствие Света…
Хьюга с пронзительным воплем пинает оператора “Тайма” в пах. Тот, охнув, подпрыгивает, и камера выскальзывает из его рук, ударяя по голове соседнего юношу. Им оказывается член Молодого Редиса Людвиг Эвтерп Моцарт. Он давно уже прямо-таки дымится от ярости из-за того, что отвергнута его тональная поэма “Метая содержимое будущих геенн”. Удар камерой стал последней каплей, переполнившей чашу его благоразумия. Он становится неуправляемым. В высоком прыжке, с визгом, переходящим в ультразвук, он обеими ногами бьет в жирные животы двух стоящих неподалеку музыкальных критиков.
Но рядом с ним раздается женский крик. Это кричит от боли Хьюга — пальцы ее босой ноги вместо мягкой плоти мужского паха встретили на своем пути пластиковую броню, которой оператор предусмотрительно защитил самое уязвимое место, памятуя о прошлом фестивале. Шипя от боли, Хьюга скачет на одной ноге, обхватив другую руками. Спиной она налетает на стоящего неподалеку мужчину, и проходит цепная реакция. Вокруг корреспондента, нагнувшегося подобрать камеру, как кегли, валятся люди.
— А-а-а-а! — хрипло визжит Хьюга, вздергивает свою юбку, под которой у нее ничего нет, и одним прыжком оказывается на плечах оператора. Она сбрасывает с него шлем и, вырвав из рук камеру, начинает молотить ею по голове, намертво зажав между бедер шею несчастного корреспондента. Передача с этой камеры не прекращается ни на минуту. Кровь заливает часть объектива, но, поскольку камера сделана на совесть, она передает миллиардам телезрителей захватывающий спектакль. Экраны всего мира заливает струей кровь оператора, а затем зрители испытывают новый шок: камера взмывает в небо, бешено вращаясь.