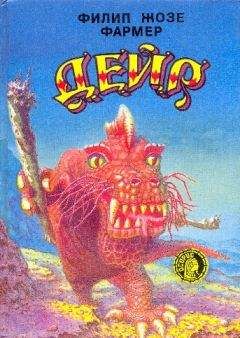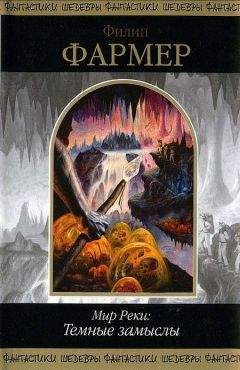— А-а-а-а! — хрипло визжит Хьюга, вздергивает свою юбку, под которой у нее ничего нет, и одним прыжком оказывается на плечах оператора. Она сбрасывает с него шлем и, вырвав из рук камеру, начинает молотить ею по голове, намертво зажав между бедер шею несчастного корреспондента. Передача с этой камеры не прекращается ни на минуту. Кровь заливает часть объектива, но, поскольку камера сделана на совесть, она передает миллиардам телезрителей захватывающий спектакль. Экраны всего мира заливает струей кровь оператора, а затем зрители испытывают новый шок: камера взмывает в небо, бешено вращаясь.
Подоспевший полисмен бьет Хьюгу электродубинкой, попадая ей между ягодиц. Она содрогается, привстав на осевшем вниз операторе, как на стременах. От электроудара ее мочевой пузырь опорожняется, смывая кровь с израненной головы оператора, уже безучастного ко всему. Очередной любовник Хьюги с ревом бросается на полисмена, и они катятся по полу. Шустрый подросток из Вествуда хватает выпавшую у полисмена дубинку и начинает забавляться, жаля разрядами срамные места взрослых, особенно женщин, как правило, не носящих нижнего белья. Он развлекается до тех пор, пока группа местных парнишек не сбивает его с ног и, связав, с гиканьем, начинает засовывать включенную дубинку ему в задний проход.
— Волнения — опиум для народа… — стонет шеф полиции. Он срочно вызывает в Центр все свои подразделения, а заодно и шефа полиции Вествуда, у которого, впрочем, сейчас не меньше забот.
Руник бьет себя в грудь и нараспев выкрикивает.
Сэр, я существую! И не пойте,
Как кукушка,
Сняв с себя заботы обо мне!
Я — человек-уникум,
Я бросил хлеб в окно,
В вино мочился и вытащил
Затычку Ковчега днища,
И Древо распилил я на дрова.
И если бы вблизи был Дух Святой,
Я освистал бы и его.
И знаю я, что Богу все угодно
В этом мире.
Что Ничего не значит ничего,
Что есть — то есть, а Нет — есть нет,
Что Роза — роза есть,
Пока мы есть, но скоро нас не будет,
И это все, что можем в Мире знать…
Раскинсон видит, что Чиб направляется к нему, прячась за спины зрителей, и пытается удрать. Чиб хватает свой старый холст с “Постулатами Пса” и бьет им Раскинсона по голове. Люскус бежит к ним, протестующе крича, но не из-за того, что Раскинсона могут покалечить, а из-за боязни, что пострадает холст. Чиб разворачивается и заезжает овальным концом холста ему в живот.
Земля дрожит, как тонущий корабль,
Ее хребет трещит под водопадом грязи
И экскрементов из глубин и с неба,
Которым щедро так пожаловал Ахава Бог.
Услышав его крик: “Дерьмо! Одно дерьмо!”,
Рыдаю я при мысли, что это — Человек,
И вот — его конец!
Но погодите!
На гребне волн трехмачтовая шхуна,
Тень столетий с Ахавом у руля.
И смейтесь, жирные, и издевайтесь,
Ибо Ахав я есьм и есьм я — Человек!
И хоть не в силах проломить я
Стену Смысла, чтоб захватить горсть
Сущего, я все же продолжаю биться!
Хотя трещит Вселенная под нашими ногами.
Но погружаемся мы, и неотличимы
От окружающих нас экскрементов Бога.
Но вдруг на миг, который будет выжжен
В зенице Господа навеки,
Ахав — я — выпрямляюсь,
Очерченный сияньем Ориона,
В руке моей зажат кровавый фаллос,
Я словно Зевс с победой,
Оскопивший Крона — отца от мира своего.
Потом Ахав и экипаж, корабль, несутся
Все быстрее, погружаясь в Сердце Мира.
И слышу я, как до сих пор они все
п
а
д
а
ю
т
.
.
.
Внезапно Чиб превращается в омерзительно дрожащее желе от разряда бунтоподавляющей резиновой дубинки. Когда он приходит в себя, то слышит из спрятанного под своей шляпой мелофона голос дедушки:
— Чиб, на помощь! Эксипитер вломился в дом и пытается сломать дверь в мою комнату!
Чиб вскакивает на ноги и начинает кулаками и локтями пробивать себе путь к выходу. Когда он, задыхаясь, появляется на пороге дома и взбегает вверх, то находит дедушкину дверь распахнутой настежь. Дом полон людей из БСД и специалистов по электронике. Чиб врывается в комнату дедушки. Там стоит бледный и дрожащий Эксипитер. Он видит Чиба и сразу съеживается и усыхает. Через несколько секунд он хрипло говорит:
— Это не моя вина… Я должен был войти. Это был единственный способ убедиться во всем. Это не моя вина. Я до него даже не дотронулся…
У Чиба горло перехватывает судорога. Он не может выдавить ни звука. Опускаясь на колени, он берет в ладони дедушкину руку. На посиневших губах старца слабая улыбка. В другой руке его зажат последний лист неоконченной рукописи:
ОНИ НЕСУТСЯ К БОГУ
ЧЕРЕЗ БЕЗДНУ НЕНАВИСТИ
“…в течение большей части своей жизни я видел небольшую кучку преданных и необъятную массу равнодушных людей. Но дух времени изменился. Сейчас слишком многие юноши и девушки проповедуют любовь к Господу, но сильную антипатию к Нему. Это волнует и расстраивает меня. Молодежь, вроде моего внука и Омара Руника, выкрикивает богохульства, таким образом превознося Его. Ведь если бы они не веровали, они бы не думали о Нем. И вот теперь у меня есть уверенность в нашем будущем…”
Чиб и его мать, одетые в траур, спускаются по тоннелю на уровень 13-Б. У тоннеля люминисцирующие стены, с каждым шагом он становится шире. Чиб сообщает мнемокассе их путь назначения. Там, за матовой стеной, живет белковый компьютер, формой и размерами похожий на человеческий мозг. Он производит быстрый подсчет, и из прорези Чибу в руки выпадает закодированный билет. Пройдя последний участок тоннеля, они входят в укромную бухту. Чиб всовывает билет в прорезь парапета и через секунду в небольшой приемный лоток вылетает другой билет, большего размера. Механический голос тихо повторяет всю имеющуюся информацию на международном и английском языках, на тот случай, если посетители не умеют читать.
В бухте показываются гондолы, постепенно они замедляют свое скольжение и останавливаются. Весь берег бухты разделен маленькими перегородками на отдельные причалы, выполняющие роль плавающих трапов. Пассажиры входят в предназначенные для них ячейки, и трапы переносят их к бортам гондол. Двери трапа и гондолы синхронно открываются, и пассажиры рассаживаются по местам. Через мгновение из бортов выдвигаются прозрачные пластины, вверху соединяющиеся в купол.