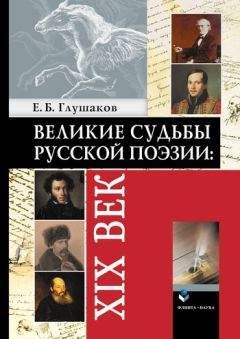Но, говоря об этом удивительном феномене, никогда не следует забываться, а я вдруг забыл, где нахожусь и с кем говорю, и произнес несколько слов на том языке, о котором следовало бы молчать.
- Это мертвый язык? - спросил Коля. - Или живой? Где и кто на нем говорит?
Я не ответил. Не мог же я ему сказать, что на этом языке говорят не здесь, а на одной планетке, очень далекой и довольно своеобразной.
Да, надо быть осторожным. И я тут же спрятался за Хлебникова, за его детско-языческую страсть создавать новые слова, с помощью которых можно прозреть сквозь скучную, покрытую пылью обыденность суть вещей, их почти дикарскую свежесть и поэтическую энергию.
Коля с чисто фаустовской привычкой думать сразу о разных вещах, соединенных вместе капризной и гносеологически жадной мыслью, опять вспомнил о своем Кассчрере, лежавшем на письменном столе в виде вполне обычной немецкой книги, изданной в Веймарской республике на отличной бумаге. Кассирер любил шифровать и расшифровывать свои и чужие мысли, толкуя о среде, которая стояла между человеком и миром, но не догадываясь о том, что окружающий мир (то есть биосфера) тоже был только посредником и средой. Но о том, о чем не догадывался Кассирер, догадался с помощью Вернадского Коля.
В следующий мой приход к Коле вместо "Сикстинской мадонны" на стене я увидел изображение Офелии.
Офелия висела в той же самой рамке, которая недавно обрамляла "Сикстинскую мадонну". Аспирант был не настолько богат, чтобы иметь две рамки, и не настолько плюралистичен, чтобы молиться одновременно двум богиням.
Показывая взглядом на изображение Офелии, Коля прочел стихи:
Звукоподобие проснулось,
Лицом к поэту повернулось
И медленно, как автомат,
Сказало:
- Сегодня вставил ты глаза мне
И сердце в грудь мой вогнал.
Уже я чувствую желанье,
Я, изваянье,
Перехожу в разряд люден.
Я внимательно слушал. На этот раз кто-то изобразил Офелию не с помощью линий и красок, а с помощью слов, и куда более точно и поэтично, с полным пониманием, что Офелия скорее знак, чем человек, или (что еще точнее) знак, слившийся с человеком совсем по законам сна, - сна, однако же ставшего реальной действительностью.
- Чьи стихи? - спросил я Колю. - Ваши?
- Нет, не мои. А Константина Вагинова. Ходит по Петроградской стороне и Васильевскому острову замечательный поэт и с помощью слов и ритма раскладывает века, как карты, и снова их соединяет. Он живет одновременно и в древней Александрии, и на Петроградской стороне, и в далеком будущем. Да, он настоящий поэт.
- Вам вредно слишком увлекаться поэзией, - сказал я. - Вы пишете диссертацию, и не о древней Александрии, а о такой прозаической вещи, как животная клетка.
- Но изучая клетку, - перебил меня Коля, - я высказываю гипотезу о возможности бессмертия, заложенной в этой клетке.
- Бессмертие! Бессмертие! Далось оно вам. Представьте себе лавочника, стоящего у своего прилавка не дни и годы, а тысячелетия. Вот что на деле означает ваше бессмертие.
- Но, во-первых, тогда не будет бакалейных лавок, и, кроме того, человек, не меняясь анатомически, будет меняться духовно.
- А вы имеете представление об автоматических людях?
- Пока нет.
- Ваше "пока" продлится не больше века. Я вспоминаю одного своего хорошего знакомого мудреца Спинозу...
- Позвольте, - перебил Коля, - от Спинозы нас отделяют века.
- Века? Согласен. Но я говорю не об этом Спинозе, а о другом, составленном из реализованных формул и гипотез.
- Вы несете какую-то чепуху, бред.
- А может, я хочу вам рассказать сюжет научно-фантастического романа, который пишу по ночам, когда в коммунальной квартире все спят и стоит такая тишина, какая бывает только в межзвездных вакуумах Вселенной.
- Почитайте как-нибудь отрывок из своего фантастического романа, - сказал Коля. - Или вы думаете, что я буду вас бранить за то, за что ругал Уэллса?
- Уэллса не нужно ругать. Уэллс о многом догадался, живя в своей провинциальной Англии.
- А вы? - вдруг спросил Коля почти шепотом. - А вы? О чем догадались вы?
- О том, что бессмертие не нужно.
- Нужно! Я могу это доказать.
- Кому нужно? Вам лично? Человечеству? Цивилизации? Или земной биосфере, которую это окончательно погубит?
- Это надо индивиду, личности.
- Для чего?
- Чтобы проявить все, что в ней заложено, не думая о болезнях и смерти.
- Вы, Коля, считаете себя диалектиком, - сказал я, - но не можете понять простую логику - единство конечного и бесконечного не может быть разорвано без последствий для общества, для цивилизации, ни... для этики. Я считаю бессмертие глубоко неэтичным.
- А я считаю неэтичной смерть и болезни.
- Болезни - это совсем другое дело, - сказал я. - Вот и боритесь с ними, Коля, изучая клетку и ее сложные механизмы. Но не замахивайтесь на время и не пытайтесь его отменить, заменив метафизической вечностью.
23
В те годы в Ленинграде мостовая была еще торцовой. На Васильевском острове кое-где между торцов зеленела робкая нежная травка, не один раз попадавшая в лирические стихи.
Впрочем, в стихи просилось все: и не раз воспетый сфинкс, стоявший напротив Академии художеств, и синенькое выцветшее небо (которое поэты почему-то называли "ситцевым"), и извозчики, лениво поджидавшие седокаиногда честного бухгалтера с парусиновым портфелем, слегка подвыпившего мастера с Трубочного или с завода имени Козицкого, а иногда растратчика, кидавшегося червонцами, я только очень редко налетчика, поспешно вскакивавшего в гоголевской конструкции бричку на старинных рессорах и с кожаным верхом и зловещим шепотом предупреждавшего:
- Ну-ка, гони веселей. А не то сразу попадешь в рай!
Растратчики и налетчики умели шутить, чувствуя, что из-под ног уходит почва и нэп доживает последние дни.
Тихо было на Васильевском острове, пожалуй, еще тише, чем на Петроградской стороне, и сфинкс на набережной, погруженной в гранитную тишину, мог общаться со столетиями, не мешая редким прохожим.
Академия художеств - это особый мир, и окна и двери выглядели так же, как во времена Пушкина и Гоголя, хотя из этих дверей теперь выходил уже не элегантновеличественный Брюллов, а скромные Петров-Водкин и Карев.
Знаменитый художник М., которого отнюдь не для того, чтобы снизить, мы называли василеостровским Тицианом, нисколько не походил на Петрова-Водкина, а тем более на скромного Карева, хотя тоже преподавал в величественном здании, похожем на застывшую, одевшуюся в камень классическую поэму, из которой время изъяло ее консервативный дух.
Василеостровский Тициан довольно часто сидел на скамейке в Соловьевском саду в величественно-созерцательной позе и о чем-то думал. С ним рядом обычно сидела Офелия, полная, но еще очень красивая дама,- дама, но не с собачкой, а с очень большим раскормленным кудрявым псом.