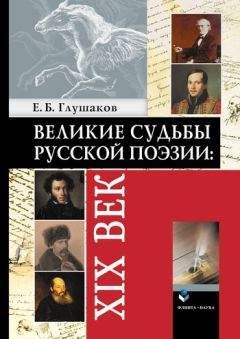Хозяин теперь уже редко выходил прогуливать своего пса. Он заметно одряхлел. С псом ходила хозяйка. Внешне она походила на всех красивых и нарядно одетых женщин, встречаемых на улицах или сидящих на бульварах. Но только внешне. В ней чего-то не хватало, и было странно, что люди не замечали этого. Впрочем, многое ли способны заметить люди? Ведь они почти не чувствуют запахов. А мир без запахов-это все равно что дерево без листьев или фонарный столб без фонаря.
Хозяин все еще продолжал работать, изображая пса. Он был недоволен фоном и по многу раз переписывал его. Хозяина не удовлетворяли глаза, и он долго бился, пока не сумел передать сходство глаз на холсте с теми, которые глядели с истинно собачьей добротой, глубоко спрятанные в густой лохматой шерсти, чуточку попахивавшей псиной.
Наконец картина была готова, и хозяин, сняв ее с мольберта, небрежно поставил на пол мастерской, прислонив к стене, поставил и ушел к себе в кабинет - полежать, почитать газету, полистать иллюстрированный журнал.
Пес подошел к своему изображению и понюхал. Пахло красками и подрамником, больше ничем. И может, желая помочь своему хозяину, пес поднял ногу и пустил тонкую желтую струю на свое изображение. Изображение ожило. Оно пахло псом, передавало всю реальность собаки, самую собачью суть.
Вошел хозяин, увидел, страшно рассердился и - чего никогда не случалось - больно пнул пса старческой, но еще тяжелой и сильной ногой. Затем он нагнулся и стал обтирать холст тряпкой, но запах, к счастью, не исчез, хотя и стал значительно менее острым.
Изображение потеряло часть своей земной и подлинной реальности, но только часть. Затем картина исчезла. Ее купил коллекционер, человек с большим и острым некрасивым носом и постоянно мигающими мелкими глазками, от которого пахло лекарствами, словно он был провизором или фармацевтом.
А пес не любил аптек и запаха лекарств, хотя и понимал, что они нужны.
Теперь запах лекарств стал все чаще и чаще раздражать собачье обоняние. Человек частенько болел. Но, борясь с болезнями и старческой немощью, продолжал работать.
Он уже не изображал женоподобные дебелые березы и слишком натуральные ели, не набрасывал на холст восходы и закаты, стараясь передать заодно и беспокойное течение лесных рек, и безмятежное спокойствие озер, чуточку подслащенных, лишь самую малость, так, чтобы не слишком бросалось в глаза опытным знатокам и придирчивым искусствоведам, но очень бы нравилось неискушенной публике, всякий раз принимавшей за истинную красоту то, что было далеко от настоящей, не подрумяненной истины.
Он не писал больше одетых и раздетых натурщиц, по-видимому потеряв интерес к налитой жизненным соком женской плоти, еще недавно преломляемой им через дрожь двусмысленной таинственности вдруг воскресавшего в нем гимназиста, прилипшего к замочной скважине, чтобы увидеть раздевающуюся горничную или дебелую повариху, пугаясь этой своей внезапной страсти и презирая за нее себя.
А ведь эта скверная и стыдная дрожь, усилием воли едва скрытая от натурщиц, и помогала нередко ему изобразить плоть, да так, что она могла пожилого и солидного зрителя тоже превратить в гимназиста. Нет, теперь не проявлялся больше в нем ни жалкий гимназист, ни еще более ничтожный мастер академического склада, глядящий на живую природу холодными глазами закройщика и обдумывающий, как бы поаккуратнее выкроить кусок природы и понаряднее посадить в багетовую раму, так чтобы рама походила на окно, которое заберет с собой какой-нибудь меховщик с Андреевского рынка, популярный адвокат - мастер юридических тонкостей и ловушек - или бывший нэпман, пристроившийся к какой-нибудь псевдокооперативной коммерческой артели.
Только теперь в нем пробудился настоящий мастер и художник. Он ставил мольберт рядом с зеркалом и подолгу смотрел на свое отражение, вдруг с ужасом поняв и почувствовав, что его пребывание и здесь, в квартире, и вообще на Земле подходит к концу.
Нет, сейчас он не думал о богатых коллекционерах, о празднично-шумных вернисажах, об антикварных магазинах и иллюстрированных журналах, а только о том, что приближается смерть и вскоре унесет его из этого удивительного и непостижимого мира.
Все останется на месте: сфинкс, трамваи и громкоголосые кондукторши, извозчики, дворники и профессора, натурщицы и синенькое небо, дожди и сонная газетчица в киоске на углу, а его не будет. Глупо все это, подло, но с собой это не заберешь и никак не словчить, чтобы остаться, задержаться, хотя бы задержаться на год или на два.
Теперь он часто, очень часто раскрывал альбом репродукций с картин Рембрандта, привезенный им еще в 1912 году из Мюнхена, и долго вглядывался в автопортреты человечнейшего из художников, всматривался в это чудо умения слить всего себя со своим изображением, так необыкновенно слить, чтобы остаться на холсте, живя там жизнью меняющегося мгновения, отожествляя себя с этим трагическим мгновением и раскрывая смысл самого непостижимого из того, что существует на свете, - единства человеческого лица с горечью переживания и с радостью убегающей секунды, которую вечно спешит сменить следующая.
Сколько этих секунд, минут, часов, дней, недель, месяцев, лет было даровано ему - художнику М. - его судьбой, его отменным здоровьем, а на что он их потратил? На создание бесконечного множества посредственных, ложно-красивых и псевдозначительных картин, почти всегда имевших шумный успех, прессу и потакавших легко поддающемуся самообману и иллюзии тщеславию художника.
Сейчас он просил у судьбы одного - хотя бы двух или трех лет, чтобы успеть закончить задуманные им работы.
Превозмогая боль и слабость, он закончил один свой автопортрет, принялся за другой. Впервые за все длинные годы своего художества он пытался слить себя и свои сокровенные чувства со своим изображением, наконец-то убрать огромную дистанцию, которая всегда существовала в его работе между вещами и их подобиями.
Превратиться в подобие без остатка, отдать подобию все силы, всю вдруг возникшую в нем страсть и превратить подобие в душу, наконец-то найденную им после стольких лет самодовольного равнодушия, наконец-то открытую им, почувствованную и понятую до самых основ. Это была не бог весть какая глубокая и правдивая душа, но она все же существовала.
Искусство должно быть духовным или вовсе не быть!
Но так ли это? И какой-то невидимый скептик, растворившись в теплом воздухе мастерской, спрашивал с чисто мефистофельским ехидным задором:
- Ну а Рубенс со своими мясистыми Венерами, а Ренуар со своими слишком плотски наглядными красавицами, а Илья Машков с виртуозно полированными натюрмортами? Разве они подлежат изгнанию и отмене?