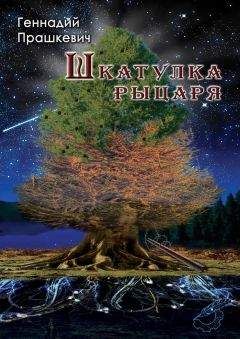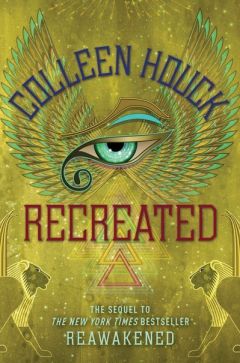Убийство,
эгоизм,
азартные игры,
клевета,
зависть,
сплетни,
скверные мысли,
непослушание,
гордость,
злость,
неверие,
страсть,
ненависть,
жадность,
месть,
воровство,
гадкие желания,
обман,
пьянство,
непочтение к старшим,
прелюбодеяние,
неприличные разговоры,
и много, и много чего еще. И что ни слово — все в цель!
Особенно потрясли Шурика гадкие желания и неприличные разговоры.
— А тут — с ночи!.. — Соседка страстно схватила Шурика за руку, при этом она старалась не привлекать внимания. — С ночи рыдают и плачут, а он — книжки!.. Эй, Сашка! — вдруг заорала она, руки в бока. — Катись отсюда со своими книжками!
И приказала пожарникам:
— Заливай!
— Ага, заливай, — хмыкнул старший, в брезентовой робе и в каске. — Воды-то хватит. А вдруг существо утонет. Стонет ведь. Лучше веревку бросить.
— Барон! Барон! — простонала рядом женщина, обогнавшая Шурика по дороге к пустырю. Подол длинной серой юбки она держала в руке и испуганно прислушивалась к разговорам. На женщину сочувственно оглядывались. — Барон! Барон!
— Видишь? — сказал парагваец пожарнику и высоко поднял руку с устремленным к зениту кривым пальцем. — Страдания! Одни только страдания и никакого счастья! Никакие добрые дела не спасут нас.
Но тоже не выдержал:
— Заливай!
— А вдруг человек там?
— Коли наш — всплывет! А чужой — пусть тонет.
— У нас все свои, — отрезал пожарник. — Лешка, бросай веревку!
Веревка полетела вниз. Наступила тишина.
Униженный парагваец грозно насупился:
— Только покаяние…
Приметив в толпе несчастную в длинной серой юбке, так и повторявшую безостановочно: «Барон! Барон!» — он повысил голос:
— Барон всплыл бы… А веревкой ему вовек не обвязаться…
Парагвайца не слушали. Все напряженно следили за веревкой, скользнувшей в мрачное отверстие шурфа. Кто-то взвыл:
— Вцепился!
— Ага! — торжествующе потряс кулаком пожилой пожарник. — А то сразу — заливай, заливай, будто мы заливальщики. А ну, берись, мужики!
— О Господи! Что там? — заволновалась толпа.
— Барон в веревку вцепился!
— Да не может Барон вцепиться!
— Тягай!
— И-и-и раз!.. И-и — и два!..
Толпа ахнула.
После очередного мощного рывка пожарных и добровольцев на истоптанную траву, как пробку из бутылки, выбросило толстого холеного борова. Он был испачкан глиной, ошеломленно щурился и, как революционный матрос пулеметными лентами, был крест-накрест перевязан веревкой.
Толпа взвыла:
— Привязался! Сам привязался!
Шурик обалдел. Хрю-хрю, брыкающийся окорок, сказал бы Врач. Как может боров обвязаться веревкой? «Это что же? — спросил он растерянно, ни к кому отдельно не обращаясь. — Как такое может быть?» А Барон тем временем, похрюкивая, близоруко разглядывал людей. Веревку с него сняли, узкие глазки понимающе ухмылялись. Барон что-то знал. Знаю, знаю, намекали на что-то узкие глазки борова. Увидев это, явно обиженная, смахнув с лица застоявшиеся слезы, владелица Барона выхватила из-за спины хворостину и вытянула ею вдоль розовой круглой спины.
Взвизгнув, Барон бросился в переулок.
Подхватив подол длинной серой юбки, хозяйка борова бросилась за ним, на ходу тоскливо выкликая:
— Барон!
— А путь широкий ведет к погибели, — бормотал парагваец. Наверное, за пропаганду он деньги получал в Уругвае. — Не ходите путем широким, выбирайте узкий, но святой путь…
— Сворачиваемся! — приказал старший пожарник, но кто-то призвал его к тишине: — Слышите? Там опять рыдают!
Толпа притихла.
Черный провал шурфа притягивал толпу как магнит.
— Да лей наконец воду! Затопите, к черту, этот шурф! — крикнула женщина, осуждавшая бесплатные книжки парагвайца. — Что всплывет, то и всплывет. Хуже никому не будет, зато узнаем, что там.
— Затопить! — решила толпа.
Старший пожарник неуверенно оглянулся.
Крутые физиономии его помощников сияли готовностью. Затопить? Нет проблем! Другое дело, если засыпать. У них и лопат мало.
— Веревку! — приказал главный пожарник, ставя толпу на место.
Веревка вновь полетела в шурф. Главный пожарник сразу стал похож на пожилого рыболова. Сбив каску на ухо, он уперся ладонями в колени и наклонился над черным провалом.
— Клюет?
— Вроде вцепился!
— Кто вцепился? — ахнула толпа.
— А я знаю? Тяни!
На утоптанную траву, загаженную окурками, тараща огромные испуганные глаза, вылетел после мощного рывка пожарных и добровольцев тощий, как палка, таджик. Пестрый халат на нем был густо измазан глиной, тюбетейка, шитая серебром, сползла на лоб. Глаза таджика пылали как угли.
— Максимка, — разочарованно взвыл парагваец. — Бросай максимку обратно!
Смуглое лицо максимки исказилось. Он понимал русскую речь. Он не хотел снова в шурф, он судорожно вцепился обеими руками в траву: «Не надо бросай обратно!» И быстро пополз в толпу, боком, как краб. Какая-то сердобольная баба не выдержала и накинула на него платок:
— Шо, змэрз, Маугли?
Куплю все!
Интересно, захаживает Лигуша в кишлак?
Впрочем, вопрос уже не имел смысла. Шурик наконец добрался до цели.
Грузный бревенчатый дом Лигуши, явно срубленный еще до войны, почерневший от времени, запирал конец улицы, превращая ее в тупик. Глухой высокий забор был недавно подправлен, на свежих тесинах красовались самодеятельные надписи и рисунки. Все они были сделаны детской рукой, носили отталкивающий характер и касались особых примет Лигуши. А в глубоком вырезе калитки что-то чернело, вроде как кнопка электрического звонка. Шурик ткнул пальцем в вырез и получил ошеломляющий удар током.
— Черт!
На этот вскрик выглянул из-за соседнего забора ветхий старикашка в заношенной телогрейке и в зимней ватной шапке на голове.
— К Ваньке? — спросил он, прищурившись. — Плох стал Ванька. Раньше все слышал. Как закричит человек у калитки, идет встречать. А сейчас хоть закричись. А может, не помнит — зачем люди кричат? — удивился старик. — Раньше здесь бондарь жил. Мамаша Ванькина дом у него купила. Давно умерла, а Ванька-то не хозяин. Вон береза пригнулась к самой крыше. Сырость от нее, крыша гниет. Мхи пошли по краю. Нет, — заключил старик, — не хозяин Ванька.
И неожиданно выпалил:
— Ты к Ваньке зачем?
— По делу.