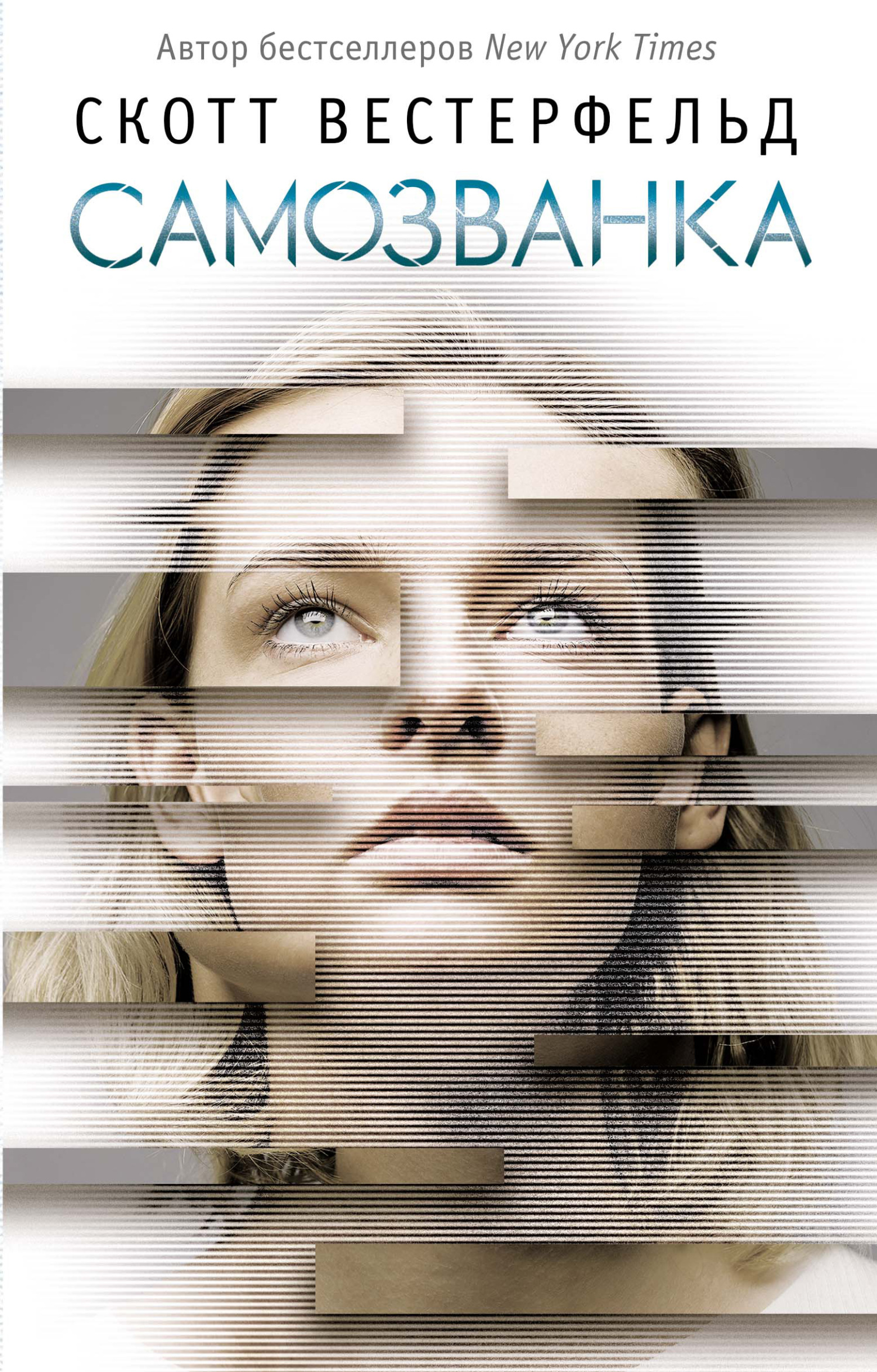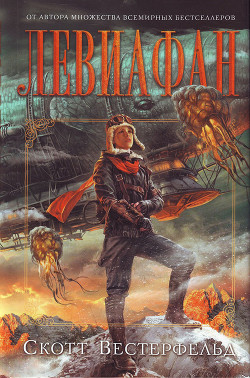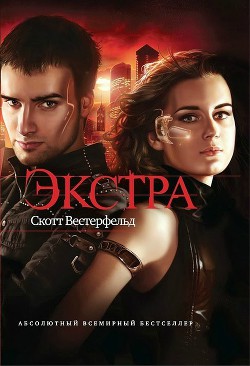телекамер. И все же люди продолжают ее искать.
И у нее над бровью действительно был шрам. Результат первого восстания против режима Красоты.
– Интересное замечание, Фрей, – доносится голос со стороны двери. – Я спрошу об этом у твоего отца.
На пороге стоит Дона Оливер, личный секретарь отца. За ее спиной маячат ряды экранов – в этой диспетчерской сотрудники отслеживают все сетевые каналы в городе. Новости, сплетни и даже изображения, зафиксированные шпионской пылью, – все проходит через эту башню.
Доктор Ортег с облегчением, что теперь не ему придется принимать решение, возвращается к работе.
Дона поворачивается к нам спиной и что-то шепчет в запястье. Она обладает невероятной красотой. Большие глаза, безупречная кожа – это сводящее с ума великолепие досталось ей со времен красавцев, когда все люди были идеальны. Но поскольку сама она никогда не пыталась сделать свою внешность еще более навороченной, ей удается при этом не выглядеть глупой дурочкой.
Рафи берет зеркальце со столика между нами.
– Может, сделать шрам слева, как у Тэлли? Как думаешь, сестренка?
Я наклоняюсь к ней, нежно беру за подбородок и долго рассматриваю ее лицо.
– Оставь все как есть. Он идеален.
В ответ она только слегка пожимает плечами, но теперь хотя бы улыбается. Я довольна собой, и эта удовлетворенность смешивается с оставшимся после боя возбуждением. Порой я и сама неплохой дипломат, даже если дипломатия – удел моей сестры.
Лицо Доны снова становится сосредоточенным.
– Он согласен, – сообщает она. – Но никакого уродства, доктор. Сделайте его изящным.
– Только лучшие шрамы, – посмеиваясь, говорит сестра и откидывается в кресле.
На усовершенствование рубца Рафи уходит целых десять минут. Похоже, сделать изящный шрам гораздо сложнее, чем полностью убрать его.
Сестра прекрасна, как и всегда, но дефект на ее лице кажется для меня неким напоминанием. Мне следовало быстрее добраться до нее или заметить убийцу прежде, чем тот откроет стрельбу.
Закончив операцию, доктор Ортег переводит на меня обеспокоенный взгляд – теперь ему придется заняться мной.
Сделать точно такой же шрам.
Он берет бутылочку медицинского спрея.
– Стойте, – говорю я.
Все взгляды обращаются ко мне. Обычно я не отдаю приказы. Для этого я родилась на двадцать шесть минут позже.
– Дело в том… – Сначала я не могу сформулировать причину, а потом до меня доходит. – Рафи, это же ведь больно, да?
– Летящие в лицо осколки? – смеется она. – Очень.
– Тогда мне тоже должно быть больно.
Присутствующие изумленно смотрят на меня как на контуженую. Но Рафи выглядит довольной. Ей нравится, если я создаю проблемы, хотя обычно это ее задача.
– Фрей права, – говорит она. – Мы должны быть одинаковы – изнутри и снаружи.
Комната обретает резкость – у меня в глазах стоят слезы. Так здорово, когда наши с Рафи мысли сходятся, пусть мы в конечном итоге и должны стать противоположностями.
– Изнутри и снаружи, – шепчу я.
Доктор Ортег качает головой.
– Я не вижу причин делать это без анестезии.
Потом он смотрит на Дону Оливер.
– Кроме одной – это гениально, – произносит она. – Молодчина, Фрей.
Я улыбаюсь ей в полной уверенности: сегодня – лучший день в моей жизни.
Меня даже не расстраивает тот факт, что она не спрашивает у нашего отца разрешения на то, чтобы причинить мне боль.
Спустя полчаса мы с Рафи сидим одни в нашей комнате, на ее кровати. Экран уолл-скрина [1] сестры переведен в режим зеркала, в котором виднеются наши отражения.
Свет приглушен из-за пульсации у меня в голове. Доктор Ортег трижды переделывал мой шрам, пока тот не стал похож на рубец Рафи.
До самого конца операции я не разрешала ему использовать медицинский спрей. Мне хотелось ощутить то же, что чувствовала моя сестра: острую резь разрываемой кожи, теплые струйки стекающей крови. Стоит нам прикоснуться к своим шрамам, как мы мгновенно вспомним одну и ту же боль.
– Мы выглядим потрясающе, – шепчет она.
Рафи всегда так отзывается о нашей внешности – во множественном числе. Словно с моим упоминанием это не будет походить на хвастовство.
Быть может, так оно и есть. Ведь наша мама была красавицей от природы, единственной во всем городе. О чем отец постоянно твердит всем и каждому. По его словам, нам не понадобится операция, даже когда мы повзрослеем и постареем, можно лишь будет чуть-чуть подправить тут и там.
Однако сочетание в нашей внешности папиного сердитого взгляда и маминого ангельского личика мне всегда казалось негармоничным. А теперь еще этот шрам.
Как если бы у Красавицы и Чудовища родились дочери, которых они воспитали в дикой природе.
– Не знаю, красивы ли мы, – говорю я. – Но точно живы.
– Благодаря тебе. Я же только сидела и кричала.
Я оборачиваюсь к ней.
– Когда ты кричала?
– Все время. – Она опускает взгляд. – Просто негромко.
Для всех остальных моя сестра предстает в своем обычном обличье – своевольной и самодовольной девушки. Но наедине со мной ее голос звучит тихо и серьезно.
– Разве тебе не страшно? – спрашивает она.
Я повторяю папины слова:
– Мятежники ненавидят нас только по одной причине: они завидуют тому, что он построил. А значит, они – всего лишь мелкие людишки, которых даже не стоит бояться.
Рафи отрицательно качает головой:
– Я имела в виду другое. Разве тебе не страшно, что ты убила человека?
Сначала мне непонятно, что она имеет в виду. Слишком сильно все перемешалось в моей голове. Звук распарываемого ножом тела убийцы, застывший в воздухе вкус его крови.
– В это мгновение я – не я. – Мои пальцы двигаются, будто перебирают команды виброножа. – Во мне говорит обучение, долгие часы тренировок.
Она берет меня за руку, успокаивая дергающиеся пальцы.
– Так бы сказала Ная. А что думаешь ты?
– Потрясающе, – чуть слышно произношу я. – За тебя, Рафи, я убью любого.
Она не сводит с меня глаз. Ее губы слабо шевелятся, выговаривая некое подобие слова: «Любого?»
У меня перехватывает дыхание. Не могу поверить, что она спрашивает о таком, пусть и практически беззвучно, чтобы ее не смогла засечь шпионская пыль. Потому что мне точно известно, о ком она говорит.
Я осмеливаюсь едва заметно кивнуть.
Даже его.
Наконец на ее лице появляется улыбка. Рафи отворачивается к зеркалу. На нас смотрят одинаковые лица с идентичными шрамами.
– Помнишь, когда мы были маленькими, нам говорили, что это игра? Будто существует только одна из нас? Тогда все это казалось нереальным.
Я киваю:
– Словно некая шутка, которую мы играем с остальным миром.
– Да, шутка. Но когда в тебя стреляют, уже не