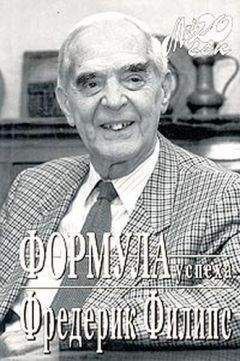Стоя в ожидании возможного ответа на грубом, поросшем мхом камне, служившем своего рода приступком, я бросил взгляд на ближайшие ко мне окна, затем посмотрел на располагавшееся над дверью оконце, и обратил внимание на то, что несмотря на ветхость, грязь, стекла в них разбиты не были. Из этого я заключил, что строение, при всей его явной запущенности и общей неказистости, должно быть, все еще обитаемо. Тем не менее, на мой стук так никто и не ответил, а потому я решил дернуть за заржавленную щеколду и обнаружил, что дверь не заперта.
Сразу за порогом находилась маленькая прихожая, со стен которой обильно осыпалась штукатурка, а из дверей доносился едва ощутимый, но определенно малоприятный запах. Я вошел, придерживая велосипед рукой, и закрыл за собой дверь. Прямо передо мной начиналась узкая лестница, завершавшаяся маленькой дверью, которая, очевидно, вела на чердак, тогда как внизу справа и слева от меня располагались двери, ведущие, скорее всего, в комнаты.
Прислонив велосипед к стене, я открыл левую дверь и оказался в небольшом помещении с низкими потолками, мрачном от едва проникавшего сквозь запыленные окна света, и обставленном самым что ни на есть незамысловатым и даже примитивным образом. Похоже, это было чем-то вроде гостиной, поскольку там стояли стол и несколько стульев, а кроме того имелся громадный камин, на котором стояли и определенно тикали старинные часы. Книг или газет было очень мало, а названия их в таком мраке разобрать было почти невозможно.
Больше всего мое внимание привлекла доминировавшая в доме атмосфера неимоверного архаизма, проступавшая буквально в каждой его детали. В большинстве домов в этой местности я и раньше встречал массу реликвий далекого прошлого, однако здесь эта поразительная древность казалась доведенной до своего пред ела, поскольку ни в одной из комнат мне не удалось обнаружить ни единого предмета, который относился бы к послереволюционным временам. Не будь это местечко обставлено столь скромной и неприглядной мебелью, оно вполне могло бы стать подлинным раем для какого-нибудь антиквара.
Обследуя эти старомодные апартаменты, я все более явно испытывал к ним чувство неподдельного отвращения, первоначально возникшее у меня при одном лишь взгляде на столь унылое строение. Ни что именно это было действительно неприязнь или, может, потаенный страх - я никак не мог определить, хотя отчетливо ощущал во всей атмосфере дома нечто такое, что, казалось, дышало темной, во многом порочной стариной, неопрятная грубость и затаенность которой, вроде бы, были давно забыты. Садиться мне почему-то не хотелось и потому я продолжал блуждать по комнатам, осматривая те или иные предметы, на которых изредка останавливался мой взгляд.
Одним из таких предметов, привлекшим мое внимание, была книга средних размеров, которая лежала на столе и имела настолько допотопный вид, что я даже подумал, что ее извлекли из какого-нибудь музея. Она была в кожаном переплете, с металлическими уголками, при этом, как ни странно, превосходно сохранилась, и мне показалось удивительным, что столь необычное издание находится в подобном затрапезном помещении.
Как только я открыл ее на первой странице, мое изумление возросло многократно, поскольку это было не чем иным как редчайшими записками Пигафетты о путешествии по району Конго, написанными на латыни на основе воспоминаний моряка Лопеса и изданными во Франкфурте в 1598 году. Я довольно часто слышал об этой книге, которая была снабжена крайне любопытными иллюстрациями, выполненными братьями Де Бран, а потому на какое-то время совершенно забыл про досаждавшую мне смутную тревогу, и очень захотел познакомиться с книгой поближе. Гравюры в ней и в самом деле были весьма интересными, выполненными исключительно на основе собственных впечатлений автора, хотя и снабженными не вполне точными пояснениями, и изображали странного вида туземцев с белой кожей и кавказскими чертами лица.
Вероятно, я вскоре так и закрыл бы эту книгу, если бы не одно довольно странное, и одновременно вполне банальное обстоятельство, почему-то задевшее мои усталые нервы и вновь оживившее ощущение непонятного беспокойства. Дело в том, что книга эта странным образом всякий раз словно бы сама раскрывалась на одном и том же месте, а именно на иллюстрации XII, на которой была в омерзительных деталях изображена лавка какого-то мясника каннибала из древнего Анзика. Я невольно устыдился собственной восприимчивости какой-то заурядной картинки, однако иллюстрация эта почему-то еще больше меня встревожила, тем более, что к ней прилагалась своего рода справка по гастрономическим пристрастиям этих самых анзикийцев.
Затем я повернулся к соседней книжной полке и осмотрел ее скудное содержимое - Библию XVIII века; "Странствия пилигримов" примерно того же периода, иллюстрированные вычурными гравюрами и изданные составителем альманахов Исайей Томасом; основательно подгнивший громадный том "Magnalia Christi Americana" и еще несколько книг примерно такого же возраста, когда мое внимание привлек внезапно донесшийся сверху звук.
По-началу изумившись, застыв на месте и вспомнив, что я уже в следующее мгновение решил, что передвигающийся человек, скорее всего, только что очнулся после долгого сна, и потому уже с меньшим удивлением прислушивался к поскрипыванию ступеней. Поступь спускавшегося по лестнице человека была весьма тяжелой и одновременно казалась какой-то настороженной, что особенно мне не понравилось с учетом его явно внушительных габаритов. Войдя в комнату, я инстинктивно запер за собой дверь, и сейчас, после мгновения тишины, когда хозяин, очевидно, осматривал мой оставленный в прихожей велосипед, услышал, как кто-то задвигал щеколдой, после чего дверь в гостиную стала медленно открываться.
В дверном проеме показался человек столь необычной внешности, что я едва было не вскрикнул, но все же каким-то образом сдержался. Это был явно хозяин дома - старый, с белой бородой, имевший вид и телосложение, которые внушали, как ни странно, некоторое уважение. Ростом он был где-то под метр восемьдесят и, несмотря на свой возраст и явную нищету, казался крепким и энергичным. Его лицо, почти полностью сокрытое длинной бородой, которая росла чуть ли не от самых глаз, казалось неестественно румяным и не столь морщинистым, как того можно было бы ожидать. На высокий лоб падала прядь белых волос, правда, чуть поредевшая с годами. Его голубые глаза с чуть красноватыми веками ощупывали меня неожиданно пронзительным и даже пылающим взглядом. Если бы не его чудовищная неряшливость, старик, пожалуй, мог бы показаться весьма внушительной и даже важной персоной. Неудивительно, что именно эта неряшливость, несмотря на выражение лица и фигуру, делала его внешность особенно отталкивающей. Невозможно было определить, что представляла собой его одежда, поскольку мне она показалась сплошной массой каких-то лохмотьев, колыхавшихся над парой высоких, тяжелых сапог. Что же до его нечистоплотности, то она вообще не поддавалась никакому описанию.