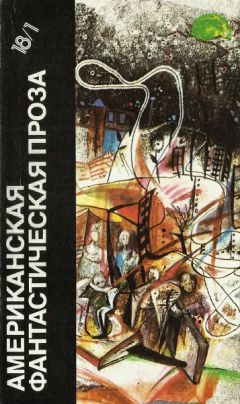Я подошел к стене, в которой было три двери, и к одной из них протянул руку.
— Это, милый, стенной шкаф.
Я протянул руку к другой.
— Не входи. То, что ты увидишь, не доставит тебе удовольствия.
Я не вошел.
Я протянул руку к третьей двери.
— Ну ладно, дорогой, входи, — жалобно сказал Шелли.
Я открыл дверь.
За дверью оказалась совсем маленькая комнатушка, в ней — узкая кровать, у окна — стол.
На столе стояла клетка, а на клетку был наброшен платок. В клетке что-то шуршало и царапало чем-то твердым проволоку.
Шелли Капон подошел и, не отрывая глаз от клетки, стал около меня, у порога; его пальчики сжимали уже новый стакан с коктейлем.
— Как жаль, что ты приехал не в семь вечера, — сказал Шелли.
— Почему именно в семь?
— Почему? Неужели непонятно? Мы бы как раз кончили есть нашу птицу, фаршированную диким рисом с приправами. Интересно, много ли белого мяса у него под перьями, да и есть ли оно у него вообще?
— И ты бы смог?! — заревел я.
Мой взгляд пронзил его насквозь.
— Да, смог бы, — подумал я вслух.
Перешагнул порог я не сразу. Потом медленно подошел к столу и остановился перед клеткой, закрытой платком. Посредине платка было вышито крупными буквами одно слово: МАМА.
Я посмотрел на Шелли. Он пожал плечами и стал застенчиво разглядывать носки своих ботинок. Я протянул руку к платку.
— Подожди. Прежде чем снимешь… спроси что-нибудь.
— Что, например?
— Ну, о Ди Маджо. Скажи: Ди Маджо.
В голове у меня включилась со щелчком десятиваттная лампочка. Я кивнул. Я наклонился к закрытой клетке и прошептал:
— Ди Маджо. Тысяча девятьсот тридцать девятый год.
Молчание — то ли живого существа, то ли компьютера. Из-под слова МАМА послышался шорох перьев, по проволочной сетке застучал клюв, и тоненький голосок сказал:
— Полных пробежек тридцать. Отбитых в среднем триста восемьдесят один.
Я был ошеломлен. Но тут же прошептал:
— Бейб Рут. Тысяча девятьсот двадцать девятый год.
Снова молчание, перья, клюв, и:
— Полных пробежек шестьдесят. Отбитых в среднем триста пятьдесят шесть. У-ук.
— Боже, — сказал я.
— Боже, — отозвался как эхо Шелли Капон.
— Точно, это тот попугай, который знал Папу, тут уж не ошибешься.
— Да, это он.
И я сдернул с клетки платок.
Не знаю, что я надеялся под ним увидеть, Быть может, крошечного охотника в сапогах, куртке и широкополой шляпе. Быть может, маленького бородатого рыболова в свитере, сидящего на деревянной скамеечке. Что-нибудь крошечное, литературное, человекоподобное, фантастическое — только не попугая.
Но только попугай там и был.
И, к тому же, не очень красивый. Вид у него был такой, как будто он уже не один год провел без сна; оказалось, что это одна из тех птиц-нерях, которые никогда не приглаживают свои перья и не чистят клюв. Черный и ржаво-зеленый, клюв грязно-желтый, и под глазами круги, будто он любит приложиться к бутылочке. Легко можно было себе представить, как он, с трудом держась в воздухе, то взлетая, то прыгая по земле, выбирается в три часа утра из какого-нибудь бара. Это был гуляка попугайского мира.
Шелли Капон прочитал мои мысли.
— Когда набросишь платок, — сказал он, — впечатление лучше.
Я снова набросил платок на клетку.
Голова у меня заработала, быстро-быстро. Я наклонился к клетке и прошептал:
— Норман Мейлер.
— С трудом запомнил алфавит, — сказал голос из-под платка.
— Гертруда Стайн, — сказал я.
— Страдала крипторхизмом, — сказал голос.
— Боже!
У меня перехватило дыхание. Я попятился. Тупо уставился на платок, закрывавший клетку. Моргая, перевел взгляд на Шелли.
— Ты понимаешь, Капон, что это такое?
— Золотая жила, всего-навсего, дорогой Раймундо! — радостно проворковал он.
— Монетный двор! — поправил я.
— Неисчерпаемые возможности для шантажа!
— Поводы для убийства! — продолжал я.
— Только представь себе! — и Шелли фыркнул в стакан. — Только представь себе, сколько издатели одного только Мейлера заплатят за то, чтобы эта птица умолкла!
Я снова повернулся к клетке:
— Скотт Фицджеральд.
Молчание.
— Попробуй «Скотти», — посоветовал Шелли.
— А-а, — протянул голос под платком. — Хороший удар левой, но не мог держать уровень до конца. Неплохой соперник, но…
— Фолкнер, — сказал я.
— Средние результаты по очкам хорошие, всегда играл только в одиночном разряде.
— Стейнбек!
— Закончил сезон последним.
— Эзра Паунд!
— В тысяча девятьсот тридцать втором году запродался командам класса «Б».
— Хвачу-ка я, пожалуй, стаканчик еще чего-нибудь.
В руку мне сунули стакан. Я одним духом выпил его и тряхнул головой. Закрыл глаза и почувствовал, как земля сделала полный оборот у меня под ногами; потом открыл глаза и посмотрел на Шелли, классического сукина сына.
— Есть и еще кое-что, пофантастичнее, — сказал он. — Ты ведь слышал только первую половину.
— Лжешь, — сказал я. — Что еще может быть?
Лицо его осветила лучезарная улыбка — улыбаться как Шелли Капон, так лучезарно и абсолютно злодейски, не сможет ни один человек на свете.
— Было еще так, — сказал он. — Ты, конечно, помнишь, что в последние годы здесь, на Кубе, Папе стало трудно записывать свои сочинения на бумаге? Так вот: он задумал еще роман, после «Островов в океане», но ему как-то не удавалось его записать. То есть весь роман был у него в голове, и многим он о нем говорил, но только никак не мог записать — не удавалось, и все тут. И потому он шел в «Куба либре», пил стакан за стаканом и вел долгие разговоры с попугаем. Так вот, Раймундо: рассказывал Папа Кордове в эти долгие ночи свою последнюю книгу. И птица все запомнила.
— Свою последнюю книгу! — воскликнул я. — Последний роман Хемингуэя! Записан только в мозгу у попугая! О, боже!
Шелли кивал, улыбаясь своей улыбкой распутного херувима.
— Сколько ты хочешь за эту птицу?
— Милый мой Раймундо, — и Шелли Капон помешал в своем стакане розовым пальчиком. — С чего ты взял, что эта тварь продается?
— Ты продал однажды свою мать, потом украл ее и продал еще раз, под другим именем. Брось, Шелли. Ты затеял какую-то крупную игру, — и я задумался около закрытой платком клетки. — Сколько телеграмм разослал ты за последние четыре-пять часов?
— Ну и ну! Я начинаю бояться!
— Сколько международных телефонных разговоров с оплатой на другом конце провода заказал ты с сегодняшнего утра?
Шелли Капон вздохнул, громко и скорбно, и вытащил из своего вельветового кармана смятую копию телеграммы. Я взял ее и прочитал: