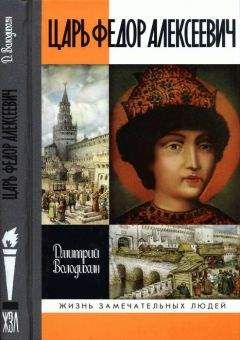В.: А какой язык ваш родной?
П.: Нет слов.
В.: Нет слов, чтобы сказать, какой язык – ваш родной?
П.: (Очень разборчиво, медленно, как будто объясняя что-то человеку с плохим слухом или глупому человеку.) В вашем языке для этого языка нет названия. Я не могу его назвать по этой причине.
В.: Хорошо, вернёмся к вопросу о том, откуда и куда вас конвоировали. Вы говорите «из одного мира в другой мир». Мы с вами сейчас тоже находимся в мире?
П.: (После некоторых раздумий.) Да. Хотя это слово не совпадает с тем, что я хочу сказать. Это просто самое близкое слово в вашем языке.
В.: Мы с вами сейчас находимся в мире, из которого вас конвоировали, или в мире, в который вас конвоировали?
П.: Нет. Мы не находимся.
В.: Что означает ваш ответ? Вы же согласились, что мы находимся в мире?
П.: (Качает головой.) Вы спросили, мы находимся тут или там. Мы ни тут, ни там. Вы спросили так, что я не могу ответить.
В.: Вы хотите сказать, что мир, в котором мы находимся, это не тот мир, из которого вас конвоировали, и не тот мир, в который вас конвоировали?
П.: Да.
В.: То есть вас конвоировали из одного мира в другой мир через третий мир?
П.: (После некоторого размышления.) Да. Через этот мир. И через другие. Через много миров.
В.: Вас конвоировали из одного мира в другой мир через много других миров?
П.: Да.
В.: И вас потеряли?
П.: Да.
В.: Почему это случилось?
П.: (После очень долгого раздумья, несколько минут молчания.) Нет слов.
В.: Вы были причиной того, что вас потеряли? Вы так сделали?
П.: Нет, не я. Причина тут. В этом мире. Но я не могу сказать. Нет слов.
В.: Скажите, а зачем вас конвоировали?
П.: (После раздумий.) Чтобы наказать. Покарать? Наказать. Какое слово правильное?
В.: Оба правильные. А за что вас наказывать? Вы совершили что-то плохое?
П.: Да. Нет. Я не знаю. Что такое «плохое»? Я совершил то, что нельзя.
В.: Вы нарушили какие-то правила?
П.: Да.
В.: А что вы совершили?
П.: Нет слов.
В.: А что за правила вы нарушили?
П. (После раздумий.) Нет слов.
В.: А кто придумал и установил эти правила?
П.: Нет слов.
В.: Так. Ну, хорошо. Вернемся к тому, для чего мы уже нашли слова. Вы сказали, что вас конвоировали корректоры. Вы сказали, что это самое близкое слово, какое вы нашли. Так?
П.: Да.
В.: Но если «корректор» – самое близкое слово, значит, эти люди что-то корректируют? Так?
П.: Ммм… ммм… Нет. Да.
В.: Что это значит?
П.: Вы всё время задаёте вопросы так, что на них нет ответа. Вы спросили «эти люди что-то корректируют», так? Они корректируют, так. Но это не люди.
В.: То есть корректоры – это не люди?
П.: Да.
В.: А кто? Хотя подождите, я знаю ответ. «Нет слов», да?
П.: Нет слов. Да.
В.: А вы – человек?
П.: Нет.
В.: Если я спрошу «кто вы», то вы ответите, что нет слов, да?
П.: Нет слов. Да.
В.: Но вы выглядите как человек! Вы говорите на человеческом языке.
П.: Я в теле человека. И этот человек знал язык. И теперь язык знаю я. Но я – не этот человек.
В.: То есть вы находитесь в чужом теле?
П.: Да.
В.: А чьё это тело?
П.: Я не знаю. Я оказался здесь, когда меня потеряли…
Так… тут сейчас долгий такой диалог, он неинтересный… – Доктор зашелестел бумагами, перелистнул несколько страниц и остановился:
– Да, вот отсюда. Здесь продолжение.
В.: А что они корректируют?
П.: (После раздумий.) Судьбу.
В.: Судьбу?
П.: (После раздумий.) Я не уверен, что это правильное слово. То, как должно быть? То, как потом будет?
В.: Вероятно, это правильное слово. Оно означает человеческую жизнь. Или жизнь вообще, необязательно человеческую. Жизнь во времени – от начала до конца.
П.: Всё равно не то. Это не то слово. Нет слов, чтобы сказать.
В.: Но это близкое по смыслу слово, да?
П.: Да. Самое близкое, что есть в вашем языке. Они корректируют то, как должно быть. Когда что-то идёт не так. Они появляются. Они корректируют. И исчезают.
И так далее. В общем, мы с ним долго общались, – сказал Клочко и отложил папку в сторону. – Он утверждал, что эти люди… или, вернее, не люди, эти корректоры – некие существа, которые восстанавливают правильный ход судьбы, если тот нарушается. Они транспортировали его после совершения им какого-то правонарушения и по какой-то причине потеряли здесь. Поначалу он очень переживал и ждал их практически каждый день. А потом вдруг неожиданно успокоился и сказал, что он здесь… я не помню дословно, надо искать… ну, что он здесь, в своей палате, находится в безопасности. Я спросил, значит ли это, что корректоры за ним не придут, но он ответил, что они в любом случае придут и что это только вопрос времени. Просто здесь они его не видят и по этой причине могут прийти не скоро.
Помимо корректоров и этих… «миров»… в его бреде прослеживались ещё два устойчивых элемента.
Первый – «анфилада». Время от времени у пациента наблюдалось онейроидное помрачение сознания… это… будто «сны наяву»… больной в такие периоды обычно просто сидел на месте, часто с открытыми глазами, но совершенно не реагировал ни на какие посторонние раздражители. Это могло продолжаться от нескольких минут до нескольких часов, один раз длилось почти сутки. По окончании онейроида я пытался выяснить содержание иллюзий и переживаний больного, однако он крайне скупо отвечал на мои вопросы. Его ответы сводились к тому, что он был в «анфиладе» и что он что-то или кого-то там искал. Иногда, по его словам, он встречался там с другими, но он отказывался говорить, с кем и зачем он там встречался.
Второй устойчивый элемент его бреда – «тростниковые волки». Время от времени он вдруг начинал интересоваться снами – чужими снами. Он спрашивал у меня или у кого-то из больных в клинике, не снятся ли нам заросли тростника. Никому из тех, с кем он общался, они не снились, и, узнавая об этом, он успокаивался. Однажды я спросил его, зачем ему знать чужие сны. Он ответил, что если к кому-то рядом с ним придут «тростниковые волки», то это может значить, что его всё-таки обнаружили. Но поскольку они ни разу «не приходили», я поначалу не придал им большого значения. До одного события. – Доктор отложил первую папку в сторону, повернулся, взял с антресолей другую папку, положил её на стол перед собой и начал листать, не переставая говорить: – Прошло уже, наверное, семь или восемь лет с тех пор, как этот пациент попал в нашу клинику. Его так и не смогли опознать, и мы так и не узнали его имени. Пациент по-прежнему демонстрировал сохранность почти всех психических процессов, при таком же устойчивом парафренном синдроме. Поскольку состояние его не улучшалось и не ухудшалось уже несколько лет, я почти потерял к нему интерес.