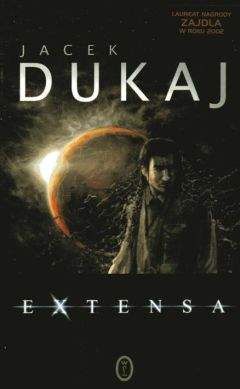— Так как, дедушка? Когда ты решил на ней жениться?
— А что это ты так неожиданно про ту женитьбу?
— Нуу, ведь Даниэль…
— Даниэль…! Не слушай ты несчастного дурака. Когда я решил, хмм. Да как-то так, мелкими шажками. Я вообще забыл о ней. Два года, ну да, два года. Сел как-то после одного тяжкого разочарования и начал размышлять, с какой же это женщиной я по-настоящему чувствовал себя лучше всего, в чьем присутствии, с чьей улыбкой. Пока не добрался до Терезы, и это уже был конец конкуренции; а вот тогда я подумал о ней в первый раз чуть ли не за год. Как-то те полчаса того вечера… Да ладно, сказал я себе, выдумал какую-то причину и поехал к ним на ферму. Рассчитывал: вышла замуж; будет совершенно иная… Но была такой же самой. Начала учить меня ворожить. Потом приехала к нам на праздники. И все. Очень скоро стало ясно, что, раньше или позднее, мы поженимся. Спишь?
— Нет. И научила тебя?
— Хмм?
— Умеешь ворожить?
— По-разному говорят.
— Поворожи, поворожи!
— Хорошее полнолуние. Буря в Маре Имбриум[2], так что про деньги ворожить не стану. Что ты хочешь знать?
— Ой-ей. Не знаю. Женится ли Даниэль.
— О тебе, о тебе; я не могу предсказывать про отсутствующих, Луна должна глядеть тебе в лицо.
— Ну ладно. Когда я умру?
— А с чего это ты…
— Ну, дедушка, пожааалуйста!
— Действительно, глупый вопрос. Хмм, ладно, раз уж должен тебе поворожить, то не гляди на меня, а гляди на нее.
— Гляжу.
— Ладно.
— Скажи, когда.
— …
— …
— Сейчас.
— …
— Ну?
— Мне нельзя говорить. Иди спать.
— Дееедушка…
Но его уже не было.
И долгое время я считал, что причиной его тогдашнего внезапного раздражения был факт, будто тогда, в движении скорых лунных ветров он увидел, как немного жизни мне осталось; что прочитал по ним мою смерть, трагическую и преждевременную. Так я думал в течение многих лет. А ведь кто ворожил? — дух, дух.
* * *
А Даниэль все-таки женился. Была свадьба. Съехались соседи и родственники. Три дюжины детей, которых я никогда раньше не видел, заполнили дом. Старой хижины было недостаточно — гости были повсюду. Все это затянулось на другую и на третью ночь. По-моему, все утратили чувство времени. Переевший, я заснул на длинном диване в большом салоне первого этажа. Тяжелые, шумливые сны несколько раз выбрасывали меня на другую сторону яви, покрытого потом от фантастических страхов. Люди входили и выходили, приблудился пес (не наш), кто-то прикрыл меня одеялом — я сбросил его на пол. Кажется, уже светало, когда я проснулся в очередной раз, втиснутый в мягкую грудь тетки Ляны. На коленях у тетки был разложен большой семейный альбом — она рассказывала истории отдельных снимков незнакомой женщине, которая сидела по другую сторону, еще с рюмкой в руке, и ежеминутно наклонялась и кривила голову, чтобы в этом сером, мутном свете получше приглядеться к черно-белым картинкам прошлого. Левая рука тетки рассеянно перебирала мои волосы; быть может, именно это меня и разбудило.
Инстинктивно, я водил глазами за ее пухлым пальцем.
— А это бабка Роза мунда, еще перед тем, как вышла за Юлиана, — говорила тетка Ляна, указывая на фотографию темноволосой Смерти, еще более молодой, на сей раз в белом платье; она брела к фотографу через серебристый поток.
— Ах, она… — вздохнула незнакомка и поднесла рюмку ко рту.
Я заснул.
Спала и Лариса, и тоже беспокойно. Ведь дедушка Михал не мог к ней прийти, не в такой же толпе. И она громко разговаривала с ним во сне. Мать услышала.
* * *
Молнии били от горизонта до горизонта, черная жирная мазь залила небо, среди дня в доме горели все огни, когда папа спускался с веранды с лампой в поднятой руке и кричал ветру, в бешеную темень:
— Отец! Отец!
Мать держала меня крепко, в противном случае, я наверняка бы сбежал с веранды за ним. Несмотря на громкий шум ветра, я слышал доносящийся из дома плач Ларисы — это уже добрых пару часов после выволочки, устроенной нам папой, а она все еще ныла. Это был задний двор фермы, но и здесь была пара запоздалых гостей, они стояли под стеной и обменивались беспокойными взглядами. Вихрь рвал их одежду, волосы. У меня шумело в ушах — разогнавшийся воздух, разогнавшаяся кровь.
— Отец! Отец!
Задержался он у старого колодца, там находилась граница тени, занавес мрака бури пересекал двор чуть ли не по прямой. Поставил лампу на колодезном срубе. Осмотрелся, поднял лицо к еще более плотной темноте. Я впивал пальцы в ладонь матери, волосы начинали становиться дыбом на голове.
— Отец!
Тот восстал из земли, из неожиданного тумана пыли, словно черный голем. Гурррххх! — и вот он уже стоит, протягивает руку к сыну, второй удерживая ураган. Во всклокоченной бороде блещут зубы, когда отвечает на вопросы, которых я не слышу; ответы мне тоже не слышны. Папа стоит к нам спиной, дедушка — лицом. Достаточно, что он поднимет взгляд, поведет им, и мы встретимся глазами — сквозь пыль, сквозь вихрь, сквозь тьму. Глянь же! Погляди на меня!
Мать прижимала меня к своему боку, мы быстро дышали; что-то здесь происходило, нечто важное, только момент не позволял задавать вопросы; я мог только стоять и смотреть.
Они ссорились. Отец размахивал руками. Дедушка, присев на краю колодца, чесал горб носа. Движения рук папы нагоняли на него громадные тени от лампы. Сухая буря грохотала за спиной дедушки.
Он был печален, я видел. Один раз попробовал протянуть руку к сыну; папа отскочил, как ошпаренный. Схватил лампу и медленно направился к веранде, спиной, шаг за шагом, продолжая кричать.
— Не приближайся! Не прикоснешься к ним! Уйди!
Добрался уже под лестницу. Темнота продвинулась за отступавшим светом, и дедушка утонул за вертикальным занавесом. С лампой в поднятой руке, отец кричал в ветер, во взбешенную темноту:
— Не войдешь! Не войдешь!
Минута, две, десять, мы были окружены стеной ночи, вихрь напирал со всех сторон, с грохотом лопнуло несколько стекол, сломалось дерево, дом трещал и чуть ли не раскачивался; перепуганный, я прятал лицо в лоне матери. Плакали дети, выли собаки. А что же творится с лошадями, с курами и свиньями… — Проклятый, — шепнула мама. Кто? Но ведь знал: дедушка Михал, он.
Я зыркал сквозь пальцы: он кружил на самой границе шторма, то появляясь из мрака, то погружаясь в нем; ураган взрывался тучами мусора в тех местах, где он выходил на свет. Он все вопил и умолял. — Вы же не знаете, что творите! Зачем, зачем все эти страдания…? Ведь никто не умрет!
— Сохрани Завет! — повторял папа. — Ты не войдешь! Прочь! — И лампа вверх.