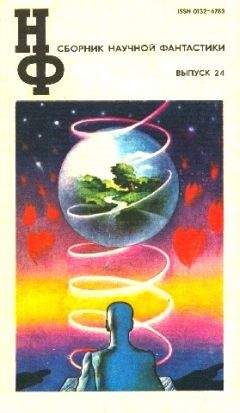— Что она с собой сделала?
— Подключилась к высокому напряжению.
— А это не могло все же быть случайно?
— Исключается.
Если б я мог считать это случайностью! Я собрал бы ее из обломков. И вся жизнь пошла бы тогда иначе…
Таня сидела отвернувшись.
«Пусть бы только молчала. Пусть бы только молчала», — думал я.
— Изумительно, — сказала она очень странным тоном. — Ты должен быть очень счастлив.
Она ревела. И слезы текли у нее по носу. Если бы можно было к ней подойти! Потому что теперь это действительно была Таня. Та Таня. Она сидела подогнув ногу так, как я всегда знал, что она будет здесь сидеть. Потом поднесла пальцы к виску. А я стоял и смотрел, как она это делает. Я всегда знал, что буду так на нее смотреть. Если бы можно было сесть с ней рядом.
За окном спали дома.
— Я ухожу часа на два, — сказал я уже от двери, — А ты реши, Таня… Если решишь не ждать, ключ можно оставить в замке.
Сзади не было ни шороха.
Через два часа эта тишина, может быть, будет пустой. Но Таня должна решить сама…
Я шел, наступая в лужи и в снег.
«Все будет, как быть должно, даже если будет не так», — это была одна из Аликиных поговорок. А я мог еще вспомнить их все, потому что два часа только начинались.
И тут я вдруг понял, что спешу. Спешу на кладбище машин. Искать мою Галатею.
ГАВРИИЛ УГАРОВ
Вернуть открытие
— Ненавижу скромность, — вдруг сказал наш собеседник. Сказал с яростью, болью, его добродушное лицо помрачнело. — Ненавижу.
Мы озадаченно притихли. Вагон мягко потряхивало, за окном синел сумрак, но никто не зажигал света, без него было как-то уютней, и разговор до той минуты шел тихий, доверительный, какой часто возникает в поезде дальнего следования меж незнакомыми пассажирами. И вот… Не помню, что предшествовало сказанному, какой-то вроде бы пустяк, но ведь и пожар начинается с искры.
— Позвольте… э… Петр Николаевич, — первым опомнился мой сосед, седенький, борода клинышком, старичок. — Как же так? Оно, конечно, скромность, как и любое другое достоинство, будучи чрезмерным, может и… Но согласитесь, скромность украшает человека и как ее можно отрицать, решительно не понимаю!
— Можно, — жестко сказал Петр Николаевич. — Можно и должно, если из-за нее пропало средство спасения тысяч людей.
— Да что вы говорите? — ахнул старичок. — Вы… Вы не преувеличиваете?
— Если бы! На моих глазах скромность одного замечательного человека обернулась, можно сказать, преступлением перед человечеством. Извините… Чтобы вы меня правильно поняли, придется все рассказать подробно.
— Да, да, соответственно, в голове, знаете ли, как-то не укладывается…
— Понимаю, тоже когда-то так думал, Ошибка! Слушайте: пересадка внутренних органов до сих пор неразрешимая, в общем, проблема, и никто не скажет, когда она будет, разрешена окончательно. А она, между прочим, уже была — и блистательно! — разрешена более десяти лет назад!
— Не может быть! — вырвалось у меня. Я, биолог, не мог сдержать свое недоверие.
— Ах, не может… — даже в полутьме глаза Петра Николаевича блеснули иронией. — Вдвойне печально, что это говорите вы. Не только как биолог. Вы по национальности, кажется, якут?
— Якут. А что?
— Ничего. Имя Томмота Ивановича Долгунова вам что-нибудь говорит?
— Нет…
— А он мог бы стать гордостью нашего народа, всего человечества. Не стал, из-за скромности не стал. Слушайте! В чем главная, даже единственная неразрешимость проблемы пересадки внутренних органов? В тканевой несовместимости. Пересадить можно хоть от лешего к бабе-яге, дело техники; организм, дурак, отторгает, фактически надо сломать, подавить иммунную систему защиты; это удается, но сами знаете, какой ценой. Нет, не подумайте, я не медик, не физиолог, вообще не ученый — строитель я. Просто… Вот об этом и речь.
Он замолчал на мгновение. Свет фонарей какого-то полустанка прошелся по его лицу движением теней, как будто укрупнил его, выделил сумрачность выражения.
— Печень у меня заболела лет в двадцать. Но знаете, как это бывает в молодости: чтобы меня — да ни в жизть! Многие в юности живут с ощущением личного едва ли не бессмертия. То есть отвлеченно сознаешь, что и тебя не минует, но это настолько далеко, что даже неправдоподобно. Словом, к врачу я не пошел, институт окончил — и начало меня по стройкам мотать! Дел невпроворот, ну поболит и перестанет, здоровый же мужик… Наконец, допекло. Так допекло, что я уже был готов молиться на белый халат. Ну местная больница, обследования там, лекарства, однако замечаю я по выражению лиц моих ангелов-хранителей, что, похоже, напрасны мои надежды на силу молодости, а заодно на могущество медицины. Выздоровлением и не пахнет, хоть и профессора откуда-то приглашали, и уход первостатейный, и весь прочий арсенал пущен в дело. Короче, вызвал я своего врача на откровенность. Душевный был человек и смелый, из тех военных врачей, которые привыкли за чужие спины не прятаться, а действовать решительно и сообразно с обстановкой.
Да… Сказал он мне, как на духу обрисовал перспективу. Черт, даже сейчас страшно вспомнить! Но откровенность его была не без умысла, потому что надежду имел. Так, мол, и так: покатится все обычным путем, ну и… Медицина, как говорится, бессильна, раньше бы захватили твою болезнь — спасли, а теперь… Но есть мосточек, есть. Никто по нему еще не ходил, только мост уже построек, ждет некоторым образом смельчака. На животных все опыты проделаны, удача стопроцентная, теперь доброволец нужен. Риска, нечего скрывать, хватает. Правда, уверен, его поменьше, чем у Барнарда, того самого, что первым как раз в те годы сердце пересадил. Но это, говорит, моя уверенность и Томмота Ивановича.
«Это что еще за светило?» — спрашиваю. Грубовато спрашиваю, сами понимаете, какие у меня мысли. «Не светило, — отвечает. — Хирург нашей больницы. Только дело не в том, где он работает и какие у него титулы, — великий Кох, да и не он один, вначале еще дальше от науки был. Дело в том, какая у человека голова и какие руки. Томмот Иванович из якутов, женился на русской, здесь, на ее родине, и осел и оперирует так, что, если бы не его скромность, давно был бы в Москве, может, уже и профессором стал, голова у него светлая, таких поискать. А не стал он профессором, уверен, потому, что исследования, которыми он занимался, ни в какой научный профиль не вписываются. Недиссертабельны они». — «Ну а конкретней?» — «Конкретней. Вас может спасти только пересадка печени, чего, в общем, нигде в мире не делают, а если и делают, то… (тут он меня насчет иммунной несовместимости и просветил). А Томмот Иванович давно вынашивает идею, что при всем бесконечном разнообразии физиологических индивидуальностей должен же и в этой бесконечности быть некий порядок, единый, что ли, закон. Делится же на группы кровь! Пока этого не знали, за одной удачей следовали десятки неудач. А теперь все стопроцентно. Смелый у Томмота Ивановича ход мысли, но история науки его подтверждает. Всюду есть закономерность группировок: и в атомах, и в растениях, и в звездах, и в элементарных частицах ее со временем найдут. Почему иммунная система обязательно должна быть исключением? Томмот Иванович выделил семь типов или групп тел и сейчас готов к решающему опыту».