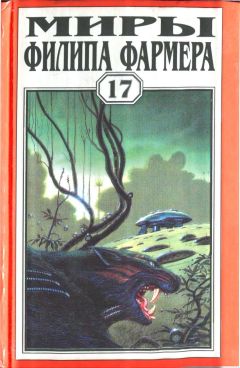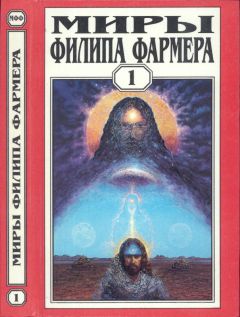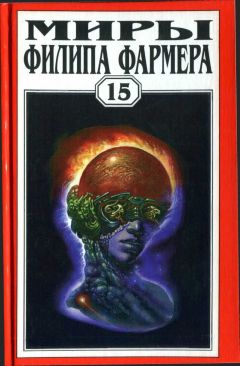Хотя с тех пор как они поженились прошел уже месяц, их сексуальные отношения ограничивались лишь несколькими торопливыми поцелуями да тем, что дядя рисковал иногда засунуть свою руку за корсаж жены и погладить ее грудь; В день бракосочетания у нее началась менструация, которая все никак не прекращалась. Поэтому он, как истинный викторианец, не мог себе позволить заниматься любовью с ней в период, когда она оставалась «нечистой» (к счастью, не все викторианцы так строго придерживаются этих правил).
Накануне бегства Джона менструации Александры внезапно прекратились. Мой дядя, как он это сам подчеркивает в своем дневнике, пришел в восторг. Наконец-то он мог прекратить свои мастурбации и перестать заглядываться на горничных.
Но тут мой будущий отец сумел выбраться из камеры в северной, наполовину обрушившейся башне замка Грандритов. Молодые супруги были слишком обеспокоены случившимся, чтобы думать в тот момент о каких-то сексуальных отношениях. Так, по крайней мере, считала Александра.
И вот теперь, в холоде и сырости густого лондонского тумана, Джеймс Кламби, приведя в порядок одежду своей супруги, попытался привести ее в чувство. Наконец она очнулась, но еще долго оставалась в состоянии глубокой прострации, и лишь на следующий день дядя наконец узнал, что насильником жены был его собственный брат.
Казалось, со временем Александра оправилась от перенесенного потрясения. Спустя несколько месяцев они отплыли в ту часть Африки, которая тогда носила название Австралийской, где Джеймс должен был выполнить очень деликатное поручение для Департамента заморских колоний (это поручение не имеет ничего общего с тем, что говорит о нем мой биограф, последний знал истинные мотивы, и то, что он о них пишет, чистой воды лукавство с его стороны).
С той ночи Александра категорически отказывалась заниматься любовью с Джеймсом. Она утверждала, что ей слишком «стыдно», что она чувствует себя «испачканной» на всю жизнь. К тому же она хотела убедиться, беременна она или нет. Но если да, если в будущем ей предстоит родить ребенка, она хотела знать наверняка, кто будет его отцом.
Джек Потрошитель совершил свое первое убийство задолго до их отъезда, во вторник 3 апреля 1888 года, то есть на третий день пасхальной недели, на Осборн-стрит. Мой дядя каким-то образом узнал про это (хотя даже в «Таймс» не просочилось ни строчки) и задал себе вопрос, в своем дневнике, не является ли это убийство делом рук его братца. Последующие события лишь еще больше убедили его в этом предположении. Но он поостерегся сообщить о своем подозрении в полицию, так как боялся этим бросить тень на все семейство Грандритов.
Однако он продолжил свои собственные розыски, наняв для этой цели частных детективов. В день своего отбытия в Африку дядя отправил в Скотленд-Ярд анонимное письмо, где описал приметы своего брата, не называя его по имени. Это письмо впоследствии куда-то исчезло и никогда не фигурировало в официальных архивах. Мои собственные розыски следов этого письма позволяют мне прийти к выводу, что своим исчезновением оно обязано вмешательству некоторых весьма влиятельных политиков.
Исчезновение Джека Потрошителя совпадает с исчезновением моего отца. И лишь в 1968 году, то есть в тот период моей жизни, которому посвящен тот том моей автобиографии, который вам предстоит прочесть, я узнал, что с ним стало.
Александра Грандрит пришла, в конце концов, к мысли, что может теперь принять мужа в своей постели. К тому времени все приметы беременности были уже налицо. Поэтому дядя продолжал страдать в тишине, а затем, как он сам выразился, он «рецидивировал» и вернулся к своим мастурбациям. Он дошел даже до того, что однажды, не выдержав, «согрешил» с горничной за несколько дней до их отплытия в Африку. Но впоследствии всю жизнь чувствовал себя виноватым в потворстве своей слабости и провел оставшиеся годы жизни под невидимым гнетом постоянного ощущения mea culpa[1]События, в результате которых чета Грандритов оказалась выброшенной на дикий берег Австралийской Африки, хорошо известны читателям моего биографа. На самом деле все происходило совсем по-другому, но главное в том, что итог был тот же самый. Джеймс Кламби соорудил крепкую хижину на берегу моря, неподалеку от кромки джунглей, где они прожили двадцать месяцев.
Я родился 21 ноября 1888 года в 23 часа 45 минут.
Со дня моего рождения рассудок матери стал постепенно угасать. Теперь большую часть своего времени она проводила, уносясь в грезы по Англии, но не реальной Англии, а придуманной ею романтической, волшебной страны. Это, однако, не мешало ей заботиться обо мне и делать все как полагается, если верить дневнику дяди. Теперь уж Джеймс не мог заставить себя заниматься с ней любовью, так как это было бы похоже на то, что он пользуется ее слабоумием. Вот почему мой дядя вел поистине мученический образ жизни, и я думаю, что он с большим облегчением принял смерть, пав под ударом вожака одного из диких стад антропоидов. Если он и ощутил страх в тот момент, то, без сомнения, это был страх за своего племянника, годовалого младенца, терзаемого голодом и тянущегося к материнской груди.
Но я уже больше никогда не смог ощутить всю нежность этой груди, ибо моя мать тихо умерла во сне за несколько часов до того, как был убит ее муж. Потом у меня все-таки была мать, отдавшая мне свое молоко, но это уже было не человеческое молоко.
Утро 21 марта 1968 года было просто восхитительным. Мне исполнилось семьдесят девять лет, но выглядел я лишь на тридцать, да и внутри чувствовал себя не более старым. В то утро меня разбудило солнце, или мне так показалось. Иногда африканское солнце выпрыгивает из-за горизонта, будто старый лев из засады, и тогда его лучи, преломляясь в утреннем тумане, напоминают огненную львиную гриву. Я проснулся, как если бы волосок этой гривы пощекотал у меня в носу.
Тишина была подобна дыханию, коснувшемуся моего лица. Эта тишина и заставила меня проснуться.
Ржание лошадей, мычание коров, кудахтанье кур и болтовня обезьян — все это вдруг застряло в их глотках, будто их кто-то сжал стальными пальцами внезапного ужаса.
Голоса поваров, слуг и садовников были слышны, но казались какими-то приглушенными. Они словно повисали в воздухе, принявшем вдруг холодный голубой оттенок. И я чувствовал, как дрожат их гортани.
Страх?
Страх опасности, подкрадывающейся неслышными волчьими шагами?
Или предательство?
Очень может быть.
Джомо Кенийята говорил, что я был единственным белым, которого он когда-либо уважал. Он хотел сказать: единственный, которого он когда-либо боялся.