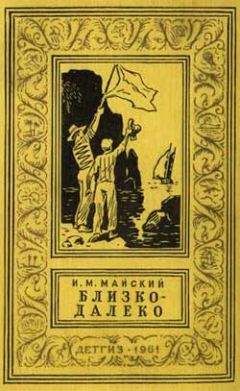— А равнодействующая куда?
— Туда, куда я полезу. На дно. К дедушке Нептуну.
— Ладно, — сказал Зададаев. — Не ворчите. Вот выручим парня, тогда лайтесь сколько влезет.
— И облаюсь, — пообещал Аракелов. — Всенепременнейше. Чтобы всей этой банде Факарао жарко стало. — Это ему понравилось, и он повторил: — База Факарао… Не база, а банда.
Они вышли на крыло мостика. Зададаев остановился, закуривая. Аракелов посмотрел вниз, на палубу. Отсюда она просматривалась вся — широкая, прямоугольная, что было немаловажным преимуществом перед другими исследовательскими судами. «Руслан» приходился не то внуком, не то правнуком «Эксперименту», первому двухкорпусному судну, и оправдывал себя, пожалуй, с еще большим блеском, чем предок. На корме, возле уткнувшейся носом в лебедку «Марты», в этом ракурсе казавшейся какой-то кургузой, все еще сидела Марийка. Только теперь она перетащила шезлонги — оба, почему-то отметил Аракелов, — на другой борт. Яркая ткань шезлонгов отчетливо выделялась на фоне металлической трапеции слипа. Вся палуба «Руслана» была обычной, пластик под дерево, но слип на корме состоял из склепанных металлических листов. Он был чертовски многоголосым, этот слип. Аракелов вспомнил, как скрежетала сталь, когда слип опускался к воде, превращаясь в пологий пандус, как повизгивали колесики тележки, на которой «Марта» медленно съезжала в море, притормаживая поющим от напряжения тросом… И как стонал слип потом, когда «Марта» возвращалась, подтягиваемая лебедкой, под аккомпанемент натужного хрипения храповика… Недаром за этим местом утвердилось на «Руслане» название «музыкальный салон».
Зададаев тронул его за плечо:
— Ну, пошли, Александр Никитич?
Они спустились на главную палубу.
— Вот что, — сказал Аракелов. — Вы идите, Константин Витальевич, скомандуйте там, а я еще задержусь немного. Время есть.
Зададаев, кивнув, ушел, и Аракелов отправился на корму. Марийка поднялась ему навстречу, и они встали рядом, облокотясь на планшир. Море было все таким же синим и спокойным, дельфины все так же неутомимо резвились в полукабельтове от «Руслана», и вообще ничего не изменилось из-за того, что где-то там, в ста с небольшим милях к востоку и почти на километровой глубине лежал на боку (Аракелов и сам не мог взять в толк, почему именно на боку, но виделось ему только так) стеклокерамический кокон «Дип Вью», а в нем этот лопух Кулидж считал оставшиеся ему часы. Часы, оставалось которых только чуть больше восьми. Если, конечно, его не вытащат. Аракелов смотрел на море, но видел уже не томную, блаженную гладь, а ту черную, тугую, холодную бездну, в которой он окажется через несколько часов. В этой бездне можно работать, может быть, даже жить, но привыкнуть к ней нельзя, пусть тебя уже семь лет называют «духом пучин». Это не воды шельфа, это бездна, и в ней нельзя полагаться ни на что, ни на зрение, ни на слух, только легкий зуд эхолокатора указывает путь — как в детской игре «холодно, холодно, холодно, теплее, еще теплее, горячо, совсем горячо…».
Сейчас Аракелов был уже не здесь, но еще и не там, и здесь его удерживало только Марийкино присутствие. Она поняла это.
— Ну, ты иди. Я тоже пойду, займусь делом. Мне надо в «Марте» посидеть, на следующей станции она по моей теме работать будет. Ты сюда с собой приемника не брал?
— Нет.
— Жаль. Ну да ладно, схожу к себе. Все под музыку веселее будет. Знаешь, совсем не могу в тишине. Нужно, чтобы фон был. Ну, иди, иди, все равно тебя уже нет.
— Я буду вечером, — сказал Аракелов.
— Ты же устанешь как бес.
— Все равно. Вечером я буду. А сейчас в самом деле пойду.
В холле перед кают-компанией сидели вертолетчик Жорка Ставраки, Генрих и двое ребят из палубной команды. Когда Аракелов поравнялся с ними, Жорка приветственно помахал рукой:
— Везет же тебе, дух! Нырнешь сейчас — и еще три дня к отпуску набежит… Нам бы так, простым смертным…
Аракелов остановился.
— Ну, давай поменяемся. Я здесь за тебя потреплюсь, а ты за меня вниз сходи, ладно?
— Ха, кто меня пустит? Я бы и рад… — Жорка развел руками. — Да и вообще, не люблю я этого — темно и сыро. Летать рожденный нырять не может!
— Летать! — Генрих могучей дланью шлепнул Жорку между лопаток. — Порхатель ты! Ясно? — И, обращаясь к Аракелову, спросил: — Заглянешь вечером?
— Не знаю, — отозвался Аракелов. — Там видно будет.
— Ты и вчера обещал, дух. Что это у тебя за Салтанов комплекс?
— Как это?
— А так: «Все к нам в гости собирался, да доселе не собрался…».
Аракелов сделал Жорке ручкой и сбежал по трапу вниз, в «чистилище».
«Чистилищем» его называли не зря. Потому что прежде всего Аракелова в течение получаса чистили всеми известными современной медицине способами, в том числе и весьма далекими от эстетики. Потом он ел горьковато-солоноватый баролит, чувствуя, как все внутренности наполняются чем-то упругим, пухнущим и тяжелеют. Казалось, больше нельзя проглотить ни грамма, но надо было съесть еще как минимум полкило, и он глотал, морщась, с трудом подавляя тошноту, глотал, потому что знал: каждый, нет — один-единственный несъеденный сейчас грамм там, внизу, обретет имя «смерть».
Теперь все подчинялось жесткому, до долей секунды расписанному графику. Прямо из-за стола его под руки повели в «парилку», где на него со всех сторон обрушились горячие волны вонючего пара, впитывавшегося в тело, в каждую пору кожи, нещадно щипавшего слизистую оболочку носа и глаз, из которых горохом скатывались слезы. Это продолжалось сто тридцать пять секунд, а потом пол под ним начал проваливаться, и Аракелов ухватился за поручни, окружавшие пятачок, на котором он стоял, не потому, что спуск был резким, а потому, что его шатало. Теперь нужно было сделать три шага к люку «купальни». Три шага. Первый. Второй… Теперь люк. Два оборота влево. Ручки на себя. Вперед. Снова ручки на себя. Два оборота вправо. И вот он внутри. Теперь уже обратного хода нет. Впрочем, обратного хода не было с той секунды, когда он проглотил первый грамм баролита.
Еще два шага. Эти шаги всегда даются особенно тяжело. И — бассейн. Мерзкая, маслянистая, желеобразная масса, в которую плюхаешься, как в болото. Она чавкает, глотая тебя, и ты начинаешь глотать ее, дышать ею, делать самое, казалось бы, противоестественное, и весь организм, весь, до последней клетки, бунтует против этого, но ты все равно дышишь и глотаешь, глотаешь и дышишь, и постепенно становится все легче, легче, постепенно тело приобретает звенящую и упругую силу, ловкость, это приходит на исходе третьей минуты, и этот момент тоже пропустить нельзя. Надо быстро выбраться из бассейна — обратно в сухой объем «купальни». Впрочем, сухим его назвать трудно, потому что с потолка сейчас низвергается не душ — настоящий тропический ливень, смывающий с тебя остатки гнусного желе. Под секущими струями этого дождя нужно сделать еще три шага — к люку баролифта. Опять два оборота влево, ручки на себя, вперед, снова ручки на себя… Этот люк двойной, и всю операцию приходится повторять. Но это уже конец.