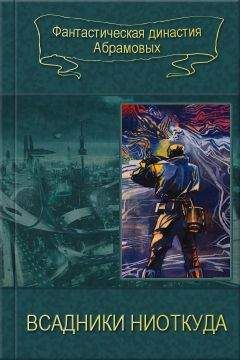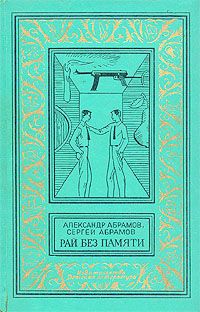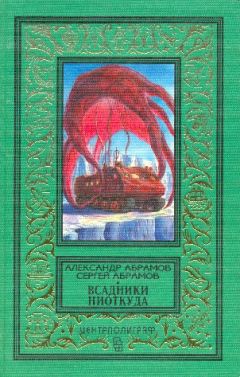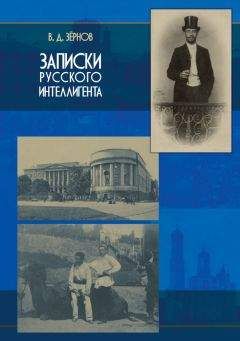— Будь другом, генацвале, посмотри на дорогу.
Он посмотрел.
— А на что смотреть? На рыжий камень?
— Он не рыжий, а красный.
— Здесь все камни красные.
— А почему посреди дороги?
— Не посреди, а сбоку. Когда лёд срезали, камень оставили.
— Сюда ехали, его не было.
Вано посмотрел дольше и внимательнее.
— Может, и не было. Поедем — увидим.
Издали камень казался неподвижным, и чем больше я смотрел на него, тем больше он походил именно на камень, а не на притаившегося зверя. Я ещё со школьной скамьи знал, что в Гренландии крупного зверя нет. Олень? А чем будет питаться олень на глетчерном леднике, да ещё наполовину срезанном?
Вано снова занялся своей сваркой, не обращая больше внимания ни на меня, ни на камень. Я решил подойти ближе: какая-то смутная догадка таилась в сознании, я ещё не мог сказать точно какая, но что-то подсказывало мне: иди, не прогадаешь. И я пошёл. Сначала камень или притихший зверь не вызывали никаких ассоциаций, но я все силился что-то вспомнить. Бывает так, что забудешь что-то очень знакомое, мучительно пытаешься вспомнить и не можешь. Я все шёл и вглядывался. Узнаю или нет? Вспомню или нет? И когда красный зверь вырос перед глазами и совсем перестал быть камнем, я увидел, что это и не зверь. Я вспомнил и узнал.
Передо мной почти поперёк ледяной дороги стояла пурпурная «Харьковчанка», наш знаменитый антарктический снегоход. И самым удивительным и, пожалуй, самым страшным оказалось то, что это был именно наш снегоход, с продавленным передним стеклом и новеньким снеговым зацепом на гусенице. Именно та «Харьковчанка», на которой мы ушли на поиски розовых «облаков» и которая провалилась в трещину, а потом раздвоилась у меня в глазах.
Я впервые по-настоящему испугался. Что это — гипнотрюк или снова их проклятая реальность? Осторожно, вернее, насторожённо обошёл машину: всё было воспроизведено с привычной стереотипной точностью. Металл и на ощупь был металлом, трещины на промятом плексигласе были совсем свежими, и внутренняя изоляционная обшивка двери чуть-чуть выпирала внизу: дверь была не заперта. Значит, снова ловушка, снова я в роли подопытной морской свинки, и чёрт знает что меня ждёт. Конечно, я мог удрать и вернуться с товарищами, что было бы наверняка умнее и безопаснее. Но любопытство снова перебороло страх. Хотелось самому открыть эту дверь, придирчиво ощупать ручку, нажать, услышать знакомый лязг металла и войти. Я даже угадывал, что там увижу: мою меховую кожанку на вешалке, лыжи в держателях и мокрый пол, — ребята только что наследили. А полуприкрытая внутренняя дверь будет привычно поскрипывать: холодный воздух из тамбура начнёт просачиваться в кабину.
Все так и произошло, повторив когда-то запомнившееся. Даже смешно, как повторялись детали — зашитый рукав у куртки, затоптанный коврик со следами ещё не растаявшего снега, даже царапины на полу от санных полозьев — сани тащили в кабину, а потом наружу сквозь верхний люк: ведь всё это случилось после того, как снегоход провалился в трещину. Я же увидел эти следы, выходя, и второй раз увидел в тамбуре двойника, и сейчас видел уже трижды повторенное. И дверь в кабину снова дрожала, и снова я колебался: входить или не входить, дрожали колени, сохло во рту и холодели пальцы.
— Жми, жми, не робей, — услышал я из-за двери, — не у зубного врача, сверлить не будем.
Голос был до жути знакомый, не узнать его было нельзя.
Это был мой голос.
Я толкнул дверь и вошёл в салон кабины, где обычно работал Толька и где я очнулся на полу после катастрофы на антарктическом плато. За столом сидел мой двойник и скалил зубы. Он откровенно веселился, чего нельзя было сказать обо мне. Если подумать и присмотреться повнимательнее, я бы сразу сказал, что это другой, не тот, которого я нашёл тогда в бессознательном состоянии в кабине дублированного пришельцами снегохода. Сейчас это была моя современная модель, скопированная, вероятно, в те недолгие минуты, когда я с парашютом пробивал в голубом куполе не то фиолетовую, не то багровую газовую заслонку. Комбинезон, в который я был тогда облачён, валялся тут же, небрежно брошенный на соседний диванчик. Все это я заметил уже позже, когда оправился от страха и удивления, а в первую минуту просто подумал, что повторяется с неизвестно какими целями уже когда-то виденный в Антарктиде спектакль.
— Садись, друже, — сказал он, указывая на место напротив.
Я сел. Мне вдруг показалось, что передо мной зеркало, за которым сказочная страна-зазеркалье, где живёт мой оборотень, некое анти-я. «Для чего он воскрес? — подумал я. — Да ещё вместе с „Харьковчанкой“».
— А где же мне жить, по-твоему? — спросил он. — Кругом лёд, а квартиры с центральным отоплением пока не предоставили.
Страх мой прошёл, осталась злость.
— А зачем тебе жить? — сказал я. — И на каком складе тебя держали, прежде чем опять воскресить?
Он хитренько прищурился — ну совсем я, когда ощущаю над кем-то своё физическое или интеллектуальное превосходство.
— Кого воскресить? Пугливого дурачка, чуть не свихнувшегося оттого, что узрел свою копию?
— Ага, всё-таки боялся, — съязвил я.
— Я был твоим повторением. Был, — подчеркнул он, — а теперь я есть. Усёк?
— Не усёк.
— Тогда я не знал, как ты жил все эти месяцы, что ел, что читал, чем болел, о чём думал. Теперь знаю. И даже больше.
— Что — больше?
— Знаю больше и знаю лучше. Ты знаешь только себя, и то плохо. Я знаю и тебя и себя. Я — твоя усовершенствованная модель, более совершенная, чем твоя кинокамера по сравнению со съёмочным аппаратом Люмьера.
Он положил руку на стол. Я потрогал её: человек ли он?
— Убедился? Только умнее сконструированный.
Я приберёг свой козырной туз. Сейчас сыграю.
— Подумаешь, супермен! — сказал я с нарочитым пренебрежением. — Тебя сконструировали во время моего прыжка с парашютом. Ты знаешь всё, что было со мной до этого. А после?
— И после. Все знаю. Хочешь, процитирую твой разговор с Томпсоном после приземления? О джиг-со. Или с Зерновым — о льдах и профессии. А может, с Вано — о красном камне? — Он хохотнул.
Я молчал, возбуждённо подыскивая хоть какое-нибудь возражение.
— Не найдёшь, — сказал он.
— Ты что, мои мысли читаешь?
— Именно. В Антарктиде мы только догадывались о мыслях друг друга, вернее, о помыслах. Помнишь, как убить меня хотел? А сейчас я знаю всё, что ты думаешь. Мои нейронные антенны просто чувствительнее твоих. Отсюда я знаю всё, что было с тобой после приземления. Ведь я — это ты плюс некоторые поправки к природе. Нечто вроде дополнительных релейных элементов.