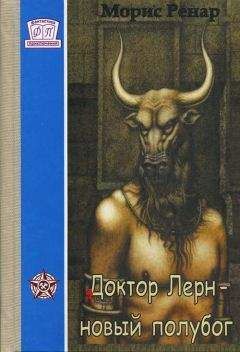Автомобиль сначала шел средним ходом довольно плавно. Но все же я уже сожалел, что так невнимательно отнесся к нему. Он стал то замедлять ход, то внезапно бросаться вперед, так что вскоре мы стали двигаться вперед какими-то резкими прыжками и бросками.
Я уже говорил, что мой автомобиль являлся триумфом автоматизма: на нем было самое минимальное количество педалей и ручек. Но этот же автоматизм представлял и серьезное неудобство: машину нужно было непременно тщательно выверять перед употреблением, потому что, раз пущенная в ход, она не поддается исправлениям на ходу, а все, что можно сделать, это только увеличить или уменьшить быстроту ее передвижения.
Перспектива продолжительной остановки мне не улыбалась.
А машина продолжала свой скачкообразный ход, и я не мог удержаться от смеха. Этот способ передвижения напомнил мне в шутовском виде манеру прогуливаться Клоца-Лерна, с которым я гулял по этой же дороге, и капризную медленность его походки, то замедленной до полной остановки, то заставляющей нас мчаться карьером вперед. Надеясь, что порча механизма временная, я мирился с капризами хода автомобиля и старался по звуку работающего мотора определить, какая из его частей не в порядке. Я склонен был приписать внезапные замедления хода, часто доходившие до того, что мы в течении целой секунды не двигались с места, избытку масла. Мое нелепое сравнение меня страшно смешило, и я не мог удержаться, чтобы не сказать:
— Совсем как эта каналья-профессор; это курьезно!
— Что случилось? — спросила Эмма. — У тебя неспокойный вид.
— У меня?.. Вот пустяки!..
Странная вещь: этот вопрос меня расстроил. А я-то был убежден, что у меня в высшей степени спокойное выражение лица. Какая же могла быть причина для моего беспокойства? Мне просто было неприятно; я, конечно, интересовался, какой из органов этого «большого зверя», как его называл профессор, был не в порядке и, не находя никакого объяснения, я уже собирался остановиться, я… ну, словом, мне было очень неприятно, вот и все! Напрасно я прислушивался своими, все же, как-никак, опытными ушами к звукам заглушенных взрывов, дребезжанию, глухим ударам: я не слышал ни одного характерного при порче цепей, предохранительных клапанов, шатунов звука.
— Держу пари, что это цепь скользит, — сказал я громко. — Ведь мотор в полном порядке…
Тут Эмма сказала:
— Николай, посмотри-ка! Разве эта штучка должна двигаться?
— Ну что же, разве я не оказался прав?
Она показала на цепную педаль, которая двигалась совершенно самостоятельно, соответственно прыжкам машины. Вот в чем повреждение!.. Пока я внимательно смотрел на педаль, она низко опустилась и заторможенный автомобиль остановился. Только что я собирался слезть с него, как он резким движением пошел дальше. Педаль заняла свое прежнее место.
Меня охватило известного рода беспокойство. Конечно, нет ничего неприятнее испорченной машины, но я не помнил случая, чтобы порча механизма приводила меня в такое дурное настроение…
Вдруг сирена принялась рычать без того, чтобы я к ней прикоснулся…
Я почувствовал непреодолимое желание сказать что-нибудь: молчание удваивало мой ужас.
— Машина испортилась вконец, — заявил я, стараясь говорить развязным тоном. — Мы не доедем раньше поздней ночи, моя бедная Эмма.
— Не лучше ли попытаться исправить ее тут же на месте, сейчас?
— Нет! Я предпочитаю ехать дальше… Если останавливаешься, никогда нельзя быть уверенным, что удастся потом тронуться с места… Починить ее всегда успеем… Может быть, она как-нибудь сама придет в порядок…
Но сирена заглушила мой слабый, колеблющийся голос своим ужасным ревом. И от ужаса мои пальцы впились в рулевое колесо, потому что звук сирены вдруг понизился, превратился в долгую певучую ноту, которая делалась все ритмичнее, меняла тон… и я чувствовал, что она сейчас перейдет в этот мотив… знакомый мне мотив марша… (А может быть, в конце концов, я сам вызвал его — этот мотив в своей памяти…) Мотив делался все более похожим, и после некоторого колебания, свойственного всякому певцу, пробующему свой голос, автомобиль затянул его своим медным горлом.
Это был мотив: «Рум фил дум».
При звуках этой немецкой песни в мой мозг нахлынул вихрь подозрений. У меня получилось впечатление новой фантастической, таинственной, чудовищной выходки Кло-ца. Меня охватил ужас. Я хотел прекратить доступ бензина, — ручка не поддавалась моим усилиям; пустить в ход ножной тормоз — он сопротивлялся; ручной тормоз точно так же отказывался служить. Какая-то не поддающаяся никаким усилиям воля держала их в своем подчинении. Я бросил руль и схватился обеими руками за дьявольский тормоз — с таким же успехом. Только сирена как-то иронически завыла и умолкла после этого выражения насмешки.
Моя спутница расхохоталась и сказала:
— Вот так смешная труба!
Мне было далеко не до смеха. Мои мысли неслись, как в водовороте, и мой рассудок отказывался верить выводам моих рассуждений.
Разве этот металлический автомобиль, при постройке которого не было употреблено ни кусочка дерева, резины и кожи, ни одна частица которого никогда не была частью живого существа, не был «организованным телом, которое до этого никогда не существовало»? Разве этот автоматический механизм не был снабжен рефлексами, но совершенно лишен разума? Разве, в конце концов, он не был единственным телом, согласно теории записной книжечки, которое может вместить душу целиком без остатка? То вместилище, которое профессор, не подумав как следует, объявил несуществующим?
В момент своей кажущейся смерти Клоц-Лерн, вероятно, производил над автомобилем опыт, аналогичный тому, который он произвел над тополем; но в своей развившейся за последние недели рассеянности он не предвидел, что (печально окончившаяся непоследовательность) его душа перейдет целиком в это пустое помещение, и что как только душевный отросток будет разрушен, его человеческая оболочка превратится в труп, возвратиться в который ему помешают законы его же открытия…
Или же, может быть, отчаявшись добиться тех богатств, к которым он тщетно стремился, Клоц-Лерн сделал это по доброй воле, совершив нечто вроде самоубийства, обменяв внешность моего дяди на оболочку машины?..
А почему бы ему не захотеть сделаться этим новым зверем, появление которого он предсказывал в такой эксцентрической форме: животным будущего, царем природы, которого постоянный обмен органов должен был сделать бессмертным — согласно его фантастическому предсказанию?
Повторяю еще раз, что как ни доказательны были мои рассуждения, я все же не хотел допустить их правдоподобность. Сходство между беспорядочным ходом автомобиля и походкой профессора, возможная галлюцинация слуха и вполне допустимая порча тормоза не могли служить достаточным доказательством такой грандиозной ненормальности. Мой ужас требовал более убедительного доказательства.