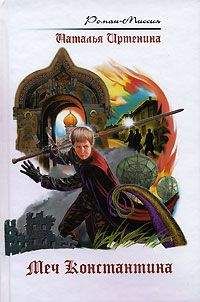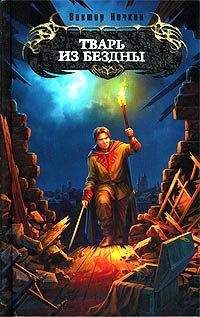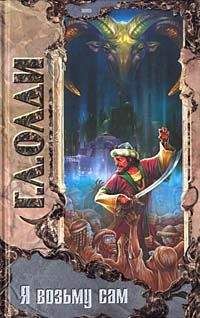Мы возвращались в деревню, к колодцу, от которого начинались все здешние дороги отряда. Через сутки изрядно потрепанная команда вернется на ту сторону, где война тихо кажет свою холодную мертвенную улыбку. Разъедется по домам, заново начнет мирную жизнь… Мирную, но не мирящуюся…
На ночевку мы устроились в лесу. Долго сидели вокруг костра, жарили колбасу и обсуждали житейские проблемы, войны уже никак не касающиеся. У одного меня не было еще никаких житейских проблем. Уткнув подбородок в колени, я просто смотрел на свет костра во тьме ночи. Я воображал, что этот костер — целый мир, тот самый, про который сказано: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Мы все принадлежали этому миру, он охранял нас, защищал, питал и согревал. И воевали мы вовсе не потому, что тьма пыталась оттеснить его и нас вместе с ним на глухие задворки. А потому, что отвоевывать себя у тьмы и означало принадлежать ему. Отказаться от этого было равнозначно смерти.
Но меч бессилен против тьмы.
— Все еще думаешь идти в журналисты? — спросил командир, подсев ко мне. Остальных в это время занимал Фашист, раскладывающий по полочкам науку Сунь-цзы применительно к всеванию мирными средствами.
— Нет, передумал, — ухмыльнулся я. — Я уж сразу в императоры пойду.
Он расхохотался, сбив с толку разглагольствующего Фашиста. На нас поглядели, и командир сам себе дал команду отставить смех. Но оказалось, Монах все слышал. И, наверное, не только это. Он встал, поднял свой меч и протянул его мне рукоятью вперед.
— Он твой, — сказал Монах.
Непроизвольно я отодвинулся назад, изумленный внезапным даром. И тут же перед глазами всплыла картинка из сна, где точно так же мне протягивал меч мой оруженосец.
— Бери, — настаивал Монах. — Тебе он больше подходит.
Я вскочил, принял, обмирая, двумя руками тяжеленный меч. Поцеловал крестовину с отлитым на ней Спасом и хрипло ответствовал:
— Спасибо… Я… — Хотел произнести что-нибудь торжественное, соответствующее моменту, но только пробормотал банальное:… Оправдаю доверие…
— К нему не полагается лишних слов, — усмехнулся Монах, снова садясь.
Я тоже сел на бревно, положил меч на колени и погладил тускло мерцающие от костра ножны.
— Это тот самый меч, взяв который, не погибнешь. Даже если тебя убьют, — добавил Монах. — Его берут, чтобы не стать предателем, когда твою землю топчет враг.
— Но это больше, чем меч, — сказал я, вынул клинок из ножен и воткнул в землю перед собой. — Это универсальное оружие.
На металлическом кресте, от основания до иконы Спаса, заплясали блики огня.
— Господа, прошу внимания, — заговорил командир, неторопливо, с оттяжкой проговаривая слова. — Я принял решение. Это был наш последний рейд. Больше я вас сюда не поведу.
— Мы умываем руки? — У потрясенного Матвея вытянулось лицо.
— Это нечестно, командир, — заявил младший Двоеслав.
— А со всеми посоветоваться? — недоумевал Горец.
Один Февраль отнесся к сообщению флегматично, без всякого волнения. Монах удивленно сделал голову набок. Паша сосредоточенно и вопросительно оглядывал всех по очереди — У нас не демократия, — напомнил Горцу Святополк. — Я начал это дело, я его и закрываю.
— Почему?! — В этот момент Матвей был младше меня, его жгла детская обида.
— Я намерен поменять тактику, — невозмутимо объяснил командир. — Я не распускаю отряд, совсем нет.
— Тебе бы это и не удалось, — в запале объявил Фашист. — Мы выберем другого командира и продолжим вылазки.
— Не продолжите. Ты забыл, что колодец находится в частном владении. Я вас просто не пущу. Взорву его к чертовой матери. Ты не дослушал, Матвей. Мы не умываем руки. Мы будем воевать. Но только не здесь, а там. И не этим. — Командир показал на свой «Калашников». — Надо уметь драться и другими способами. Законными средствами навязывать врагу свои правила, без гражданской бойни. Полагаю, хватит с нас уже крови. За последние сто лет захлебнулись в ней. Ведь за каждую каплю придется ответить перед Ним. — Командир показал на икону в крестовине меча, — Я не хочу больше продолжения, оно на руку лишь оккупантам. Мир изменился, и оружие сейчас берут в руки только от слабости. Раньше мне казалось, что мы слабы… наверное, я не верил в победу. Мне было больно за мою страну… Но теперь я верю. Мы не слабы, мы сильнее врага.
За нами правда, а за ними только ложь и ничего больше…
Произнеся эту речь, командир насторожился, поднял голову, прислушиваясь.
— Тихо! — велел он, хотя и так все молчали. Руки легли на оружие. После минутной тишины раздался голос Февраля:
— Я ничего не слышу.
— В том-то и дело.
— Будто бесы в уши нагадили, — отозвался Паша, ковыряя пальцем в ухе.
В лесу стояло мертвое безмолвие. Ни крика ночных птиц, ни пиликанья насекомых, ни ветра в деревьях. Даже костер не трещал. Абсолютное беззвучие все сильнее давило на уши, на мозги, словно голову засунули под пресс.
— Смотрите! — услышал я голос, доносящийся будто с большого расстояния. Это кричал Леха в двух метрах от меня. Он уже не сидел, а стоял и в страшном возбуждении тыкал рукой в небо.
Остальные тоже повскакивали, запрокинув головы. Хотя и вскакиваньем это трудно было назвать — выглядело как расставание обитателей дома престарелых с завалинкой, разве что кряхтенья не слыхать. Движения потеряли скорость и четкость, как в невесомости, но собственные внутренние ощущения не изменились. Никакой невесомости я не чувствовал. Только зрение и слух давали диковинный сбой.
Небо, с рассыпанным недавно миллионом звездных крошек, теперь было иссечено слабо светящимися штрихами. Будто весь миллион превратился в мел и в один момент был размазан по небесному куполу. Да еще и в разных направлениях. Луна же разлилась космической лимонной рекой, похожей на ночную одноцветную радугу, совершенно плоскую. Наш костер, напротив, полыхал всеми цветами спектра.
Мысли в голове, как ни странно, были четкие и быстрые. Никакой паники я не чувствовал, наоборот, тревога осаживалась на дно, сознание освобождалось от беспокойной мути. Вдруг стало совершенно ясно, что это остановилось время.
Я мог глядеть внутрь себя, как в прозрачную воду, до самых темных глубин, видеть то, что раньше было спрятано. Но, заглянув туда, я испугался. То, что сидело там, мне совсем не понравилось. Больше всего оно напоминало черный клубок ищущих щупалец. Отшатнувшись от самого себя, я увидел множество теней вокруг. Сгустки тьмы то наступали, то отодвигались, начинали кружить, кривлялись. Их привлекал и манил тот черный клубок с щупальцами, который сидел во мне. Тот самый внутренний враг, мой противник на главной войне, которая будет долгой-долгой, с маленькими победами и большими поражениями. От сжавшей сердце тоски я заорал, но не услышал собственного крика.