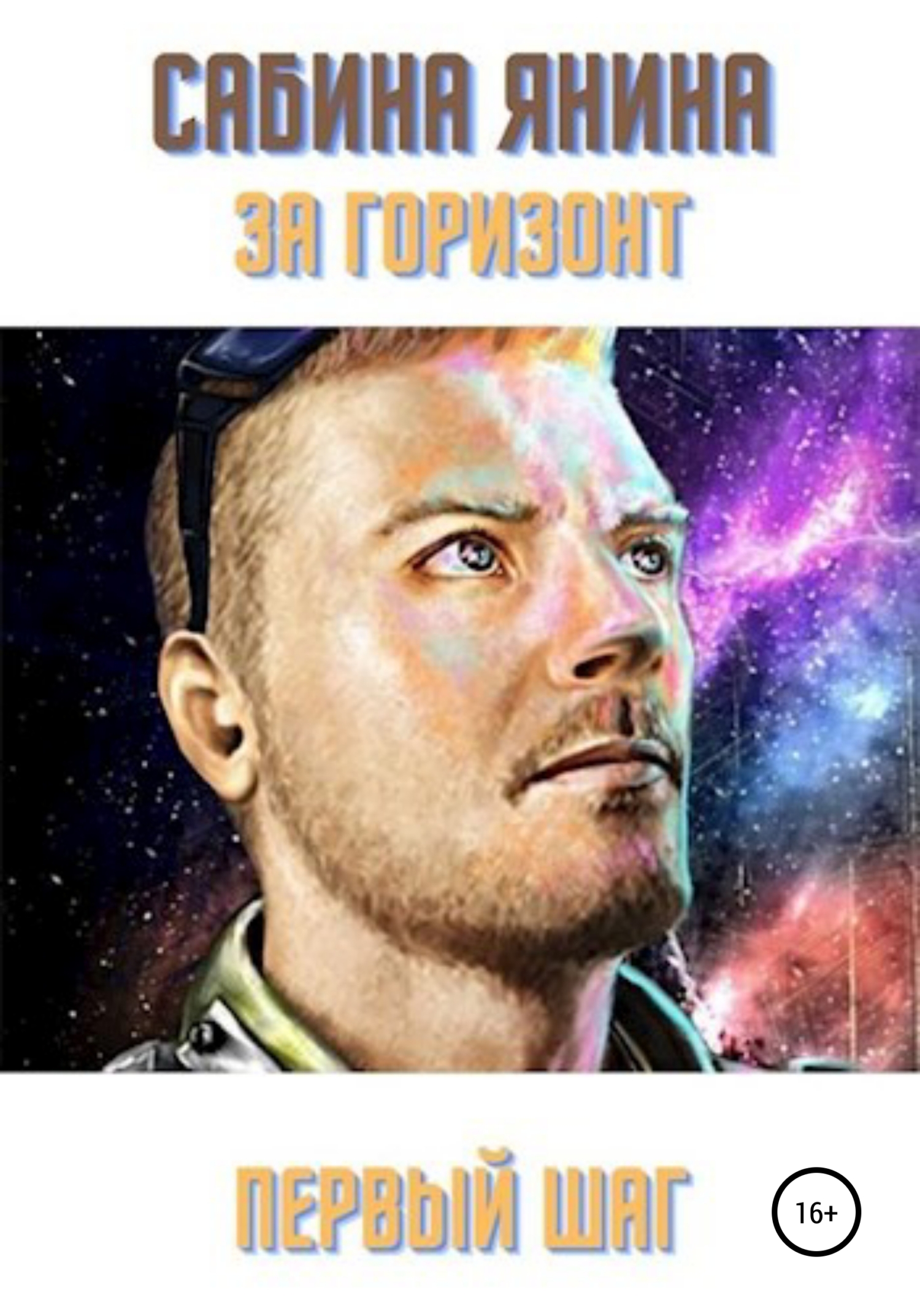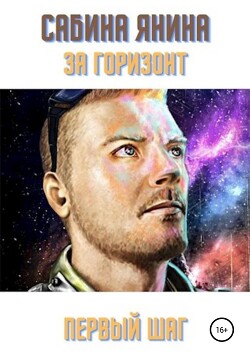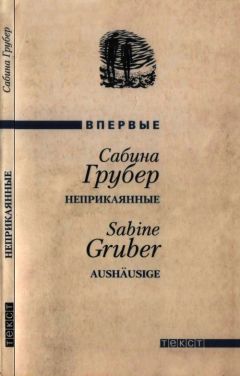в песке, в котором они любили печь свои куличи.
Так миновала неделя.
Закончился срок наложенной на меня отцом Ануфрием епитимьи. Стал ли я менее гордым? Не знаю. Но то, что все люди для меня встали вровень со мной, было однозначно. Настал день, когда Герасим вновь повёз меня в монастырь. Впрочем, зачем Герасиму нужно было в этот раз ехать я не очень понимал. Всё, что нужно для учёбы сыну, он передал в прошлый раз. Никаких поручений отец Окимий ему не давал, а у него у самого какие могли быть дела в монастыре? Пойти к литургии? Не сказал бы я, что Герасим был настолько набожен. Хотя… А может просто меня пожалел.
– Герасим, а что ты взялся меня подвести-то? У тебя какие дела в монастыре? Или на литургию?
– Да не. Литургия дело хорошее, но что храм? Помолится можно и дома. А икона у меня хорошая, мне её пожертвовал отец Окимий, когда жена померла.
– Это та, что в красном углу в гостиной? Богородица?
– Она матушка. Я и лампадку перед ней по праздникам зажигаю. Душой ведь к Богу можно обратиться в любом месте, – и, помолчав, добавил, – лишь бы душа чуткая была.
– Какая? – удивился я.
– Какая, какая. Чуткая. Вот как у людей? Всё разные души: у кого чуткая душа, тот чует и боль чужую, и радость, а значит, открыта его душа для молитвы и для Бога, в каком ты месте к нему не обратись. А спящая душа глуха да нема и не чует ничего. Тут хоть обмолись, хоть в храме, хоть и где, а не услышит Бог, потому что спит душа, и говорить-то нечем.
Мы замолчали.
– Интересно ты, Герасим, о душе думаешь, – наконец, сказал я и решился спросить, то о чем хотел спросить уже давно в первые дни, когда приехал сюда, – а скажи, Герасим, вот ты веришь в Бога?
Герасим удивлённо глянул на меня:
– Знамо дело верю!
– А кто для тебя Бог?
– Кто для меня Бог? А для тебя? – хмыкнул Герасим, – Глуп ты ещё Олег, как я погляжу, и вопросы какие-то дурацкие задаёшь. Кто Бог! Знамо дело кто Бог! – он замолчал.
– Герасим, а вот для чего ты живёшь?
Герасим крякнул и хлестнул лошадь:
– Но пошла, лахундра! – и, не поворачиваясь, ко мне сказал, – что пристал-то как репей к заднице! Для чего живёшь! Чего тут философию то всякую рассусоливать. Живи так, как надо и всё. Чтобы нужон ты был на этом свете. Зачем нужон, для того и живёшь, баранья твоя башка, – вконец разозлился он, видимо, на такой необычно длинный для него разговор, в какой я его втянул.
– Ладно, тебе, Герасим, не злись, я так к разговору.
– К разговору, – ворчал Герасим, – вот знал бы, что будешь разговоры всякие разговаривать, не повёз бы тебя. Шёл бы пешком, посбивал бы все ноги. Посмотрел бы я тогда. Как ты бы стал разговоры-то разговаривать.
Я лежал на сене и улыбался, телега мерно колыхалась, изредка подскакивая на камне. Заложив руки за голову, я смотрел, как тихо проплывали белые пушистые облака, меняя по ходу очертания, словно кто рисовал картины из пуха. «Делай, что должен – это и есть, зачем ты живёшь». Герасим всю жизнь в поселении ходил на охоту не только для себя, а скорее для поселенцев, косил сено, и опять же для всех, отправлялся на станцию за продуктами. Сам инвалид, а таскал ящики на себе. Всегда шёл туда, где был нужен и куда его звали, где требовалась умелая сильная рука, чтобы что-то починить, что-то исправить. Разбогател ли он? Все богатство – это его сын да добрая слава от людей, ради которых получается он и жил. Вот именно в этом он и видел смысл своей жизни и видел Бога, который для него был родным, опорой, с которым разговаривал душой.
– Чего затих-то? Уснул что ли? – Герасим обернулся ко мне, – просыпайся, давай, философ. Вон уж монастырь. Смотри, опять не опростоволосься, а то откажут в причастии-то и будешь новую епитимью сполнять да философствовать, – усмехнулся он.
Телега, грохоча, въехала в монастырские ворота и влилась в толпу поселенцев, спешащих к литургии.
На этот раз я полностью отстоял литургию, стараясь вслушаться в слова певчих и читающих молитвы. Раздражения, которое обычно вызывало во мне это людное место, резкие запахи и непонятная речь, на этот раз не возникло, но ощущение большого представления и декораций великолепного театра не оставляли. Ощущение театральности усилилась, когда после службы отец Фивий взошёл на амвон и начал проповедь[i]:
– Только что мы окончили Божественную Литургию, и сколько святых переживаний мы уносим с собой в сердцах! Мы утешились нашей совместной молитвой, с благоговейным вниманием мы слушали слово Божие, много раз мы склоняли свои головы под благословляющие руки Церкви, многие из вас вместе с нами, священнослужителями, причастились Святых Тайн. Святой Иоанн Златоуст говорил своим духовным детям: пусть каждый из вас после богослужения выходит из храма Божьего лучшим, чем он вошёл в этот храм. Да даст Бог, чтобы что-нибудь из моего слова, запав в ваши души, принесло бы свой плод для величайшего на земле дела – спасения наших душ. Спасения наших душ от греха своего. «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя». Так сказано в слове Божием. И все мы, должны сознавать свои грехи и каяться в них перед лицом Господа, открывая Ему своё сердце. Ведь мы не только сегодняшние или вчерашние грешники: мы многолетние грешники. Сколько раз мы каялись во грехах и вновь в них впадали! Сколько раз мы обещали Господу Богу и совести своей остановиться на этом пути и не повторять греха, и не исполняли этого обещания!
Почему же Господь Бог так долго терпит каждого из нас, грешников, на земле? Ведь мы за свои грехи должны были быть давно наказаны не только скорбями и болезнями, но и смертью, чтобы смрадом этих грехов не оскверняли земли Божией.
И святые Ангелы не вполне могли понять степень долготерпения Божия к грешникам. Но что говорит притча, сказанная Господом Иисусом Христом о пшенице и плевелах? И засеяна была пшеница, а вместе с нею взошли и плевелы. Это – верные Господу души и грешники нераскаянные. И Ангелы, как сказано в этой притче, возмущенные этими грешниками, которые оскорбляют величие и святость Божию, обратились к Господу со словами: «Хочешь ли, мы пойдём выберем их?» И Господь им отвечает: «Оставьте