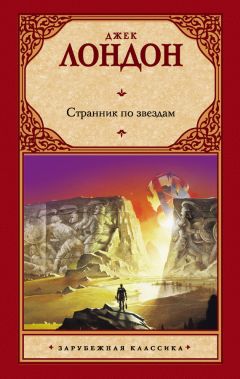Не колебания Пилата заставили меня принять решение. Это Иисус решил, как должно было поступить и Пилату и мне. Он поглядел на меня. И повелел мне. Говорю вам: этот бродяга-рыбак, этот странствующий проповедник, этот простолюдин, забредший сюда из Галилеи, повелел мне. Он не произнес ни слова. Тем не менее его повеление прозвучало, как трубный глас. И я остановил мою занесенную для прыжка ногу и задержал мою руку, ибо кто я был такой, чтобы противиться намерениям и воле столь величаво спокойного и столь кротко уверенного в своей правоте человека! И когда я остался стоять, где стоял, я постиг всю силу чар этого человека: мне открылось в нем все то, что околдовало Мириам и жену Пилата, что околдовало и самого Пилата.
Остальное вам известно. Пилат умыл руки в знак того, что он не повинен в смерти Иисуса, и кровь его пала на головы бунтовщиков. Пилат отдал приказ о распятии Иисуса. Толпа была удовлетворена, удовлетворены были и прятавшиеся за спину толпы Каиафа, Анна и синедрион. Ни Пилат, ни Тиберий, ни римские солдаты не распинали Иисуса. Это было делом рук первосвященников Иерусалима. Я видел. Я знаю. Пилат спас бы Иисуса вопреки своим интересам – совершенно так же, как это сделал бы и я, если бы сам Иисус не воспротивился этому.
А Пилат позволил себе последнюю насмешку над этой чернью, которую он презирал. Он приказал прибить к кресту Иисуса дощечку с надписью на еврейском, греческом и латинском языках: «Царь Иудейский». Тщетно протестовали первосвященники. Ведь именно под этим предлогом принудили они Пилата казнить Иисуса, и именно этот предлог, оскорбительный для иудеев, позорный для них, подчеркнул Пилат. Он казнил отвлеченную идею, которая никогда не воплощалась в действительность. Эта отвлеченная идея была выдумкой, ложью, измышлением первосвященников. Ни сами первосвященники, ни Пилат не верили в нее. Иисус ее отвергал. Эта отвлеченная идея воплощалась в словах: «Царь Иудейский».
Буря, бушевавшая во дворе перед дворцом, улеглась. Горячечное возбуждение мало-помалу остыло. Мятеж был предотвращен. Первосвященники были довольны, толпа успокоена, а Пилат и я испытывали огромную усталость и отвращение к тому, что случилось. Однако новые грозовые тучи уже собирались над нашими головами. Иисуса еще не увели, а одна из прислужниц Мириам уже явилась за мной. И я заметил, что Пилат, повинуясь такому же зову, направился следом за прислужницей своей жены.
– О Лодброг, я знаю все! – такими словами встретила меня Мириам. Мы были одни, и она прижалась ко мне, ища поддержки и защиты в моих объятиях. – Пилат не устоял. Он собирается распять его. Но еще есть время. Твои легионеры на конях. Возьми их и поезжай. Его стерегут только центурион и горстка солдат. Они еще здесь. Как только они двинутся в путь, следуй за ними. Они не должны достигнуть Голгофы. Но дай им выбраться за городскую стену. И тогда отмени приказ Пилата. Возьми с собой оседланную лошадь для него. Остальное будет нетрудно. Скройся с ним в Сирию или в Идумею – куда угодно, лишь бы он был спасен.
Она умолкла. Ее руки обвивали мою шею, запрокинутое лицо было соблазнительно близко, в ее глазах светилось обещание.
Удивительно ли, что я заговорил не сразу. Какое-то мгновение мной владела только одна-единственная мысль – сначала странный спектакль, разыгравшийся перед моими глазами, а теперь это. Я не заблуждался. Все было совершенно ясно. Божественная женщина будет моей, если… если я предам Рим. Ибо Пилат был наместником, он уже отдал приказ, и его голос был голосом Рима.
Как я уже говорил, Мириам прежде всего была женщиной до мозга костей, и это разлучило нас. Она всегда была столь рассудительна, столь трезва, столь уверена и в себе и во мне, что я позабыл извечный закон, который должен был помнить: женщина всегда остается женщиной… В решающие минуты женщина не рассуждает, а чувствует и подчиняется тогда велениям не ума, а сердца.
Мириам неправильно истолковала мое молчание, ибо, прильнув ко мне, прошептала, словно что-то вспомнив:
– Возьми двух запасных лошадей, Лодброг. Вторую для меня… Я уеду… Уеду с тобой, хоть на край света, куда бы ты ни направился.
О, это была царственная взятка! А взамен от меня требовался пустяк. И все же я продолжал молчать. Не потому, чтобы я колебался или был смущен. Просто огромная печаль охватила меня при мысли, что никогда больше мне не суждено будет обнять эту женщину, которая сейчас покоится в моих объятиях.
– Только один человек во всем Иерусалиме еще может сегодня спасти его, – настойчиво продолжала она. – И этот человек – ты, Лодброг.
И так как я и тут ничего ей не ответил, она потрясла меня за плечи, словно стараясь вывести меня из оцепенения. Она потрясла меня так, что мои доспехи загремели.
– Отвечай же, Лодброг, отвечай! – потребовала она. – Ты силен и бесстрашен. Ты – настоящий мужчина. Я знаю, ты презираешь чернь, которая хочет его смерти. Ты, только ты один можешь спасти его. Стоит тебе сказать слово, и все будет сделано, а я всегда буду горячо любить тебя за это до конца моих дней.
– Я римлянин, – медленно произнес я, слишком хорошо понимая, что, произнося эти слова, теряю ее навсегда.
– Ты верный раб Тиберия, верный пес Рима, – вспыхнула она, – но ты ничем не обязан Риму, ты не римлянин. Вы, золотоволосые великаны с севера, вы не римляне.
– Римляне – наши старшие братья, а мы, северяне, – младшие, – отвечал я. – А я к тому же ношу римские доспехи и ем хлеб Рима. – И, помолчав, я вкрадчиво добавил: – Но почему столько волнений и шума из-за жизни одного-единственного человека? Смерть суждена всем. Умереть – что может быть легче и проще? Сегодня или через сто лет – так ли уж это важно? Ведь каждого из нас неизбежно ждет тот же самый конец.
Она затрепетала в моих объятиях, охваченная одним страстным желанием – спасти жизнь Иисуса.
– Ты не понимаешь, Лодброг. Это не просто человек. Говорю тебе, это человек, который выше всех людей, это живой Бог, он не из людей, он над людьми.
Я крепче прижал ее к себе и сказал, понимая, что теряю драгоценнейшую из женщин:
– Ты женщина, а я мужчина. Мы оба смертны, и наш мир – здесь, на земле. Мечты о загробной жизни – безумие. Пусть эти мечтатели и безумцы живут в мире своих грез. Не лишай их того, что им всего дороже – дороже мяса и вина, дороже песен и битвы и даже женской любви. Не лишай их самого заветного желания, которое влечет их, манит их туда вперед, за мрак могилы, где они мечтают обрести иную жизнь. Не мешай им. Но ты и я – мы принадлежим этому миру, где открылось нам блаженство, заключенное для нас друг в друге. Слишком быстро, увы, настигнет нас мрак, и ты отлетишь в свою страну солнца и цветов, а я – к пиршественным столам Валгаллы.