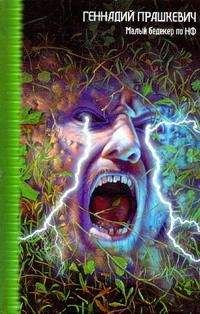— Не надо, — грубо отрезал Роальд. — Вы сами прекрасно знаете, что любовь — это всегда побег. А если не побег, то поимка.
Слова Роальда заинтересовали Люцию Имантовну.
— Ты — придурок, — сказала она Роальду. — Но если разыщешь любимчика, я твою контору поставлю на ноги.
— Вас понял.
Время шло, но любимчик не находился.
Роальд сделал эффектную паузу.
— Смотри, — наконец сказал он, выкладывая перед Шуриком местную газету. — Видишь этот снимок? Вот тут, ниже, под описанием очередной презентации. Кто-то там издал какую-то книгу, как водится, обмывали в Домжуре. Фотография сделана именно на презентации. На редкость отчетливая фотография.
— Ну и что? — спросил Шурик.
— А то, что Люция утверждает: один из придурков, изображенных на фотографии, ее пропавший муж.
Присмотревшись, Шурик увидел на фотографии, среди прочих скошенных рож, несколько криворотого человечка. Криворотость эту, наверное, можно было отнести к дефектам печати, но на всякий случай Шурик заметил, что на месте Люции Имантовны разыскивать такого чудика он бы не стал. Иван Сергеевич Березницкий как-то не пришелся ему, пусть бы себе и бегал.
— Это не твое дело, — грубо сказал Роальд.
— Но ты сам посуди, — сказал Шурик. — Иван Сергеевич в бегах уже пару лет. Эта Люция ищет его непрерывно. Одних объявлений сколько давала. «Мой лютик, жду на прежнем месте!» А лютика нет, как не было. Откуда вдруг снова появился? Его же легко опознают. Он косоротый.
— Это не твое дело, — грубо повторил Роальд. — Может, на снимке совсем другой человек. И так бывает. Косоротых много, все равно надо проверить. Люция нам платит неплохие деньги. А ее бывший муж сам пописывал в газеты. Почему бы ему не зайти в Домжур? Его, наверное, там знают.
И посмотрел на Шурика:
— Хочешь мяса, сделай зверя!
На четвертый день прозаик П. и поэт К. пришли в себя.
Проведя в номере короткое закрытое партсобрание, они явились ко мне и не отказались от бутылочки ледяного швепса. «Что мы собираемся делать дальше?» — утомленно спросил прозаик и укоризненно постучал тростью в пол, будто призывая в свидетели своего благорасположения кого-то из нижних соседей.
— Поедем к мадарскому коннику.
— Кто такой?
Я рассеял их подозрения.
Мадарский конник — это высеченный на гигантской известняковой стене всадник. Видимо, коренного происхождения, автохтон, а не просто болгароязычный. В левой руке он держит поводья, а правой бросает копье, пронзая льва — символ всего чуждого, иностранного. За конником бежит собака. Не какой-нибудь нынешний недобитый сардель-терьер, а настоящая славянская боевая собака. Таких приравнивают к холодному оружию. Кто и когда создал шедевр — неизвестно. Надписи, оставленные на стене ханами Тервелом, Кормисошем и Омуртагом, ясности в вопрос не вносят, ибо оставлены, понятно, уже после создания барельефа. Мы непременно должны все это увидеть.
Прозаик П. согласно кивнул, но поэт К. на всякий случай заметил:
— Но они, болгары, должны помнить…
День выдался столь душный, столь опаленный бессердечным южным солнцем, что даже штурцы, так в Болгарии называют кузнечиков, орали истерично и с передышками.
Бесконечная травянистая степь.
Так и ждешь, что вдали из марева выдвинется римская колонна.
Гигантская белая стена известняков на горизонте, вырастающая по мере того, как ты к ней приближаешься. Адам, посещавший рай, несомненно, видел кусочек этой бесконечной степи. Три автомобиля шумно рубили плотный душный воздух. Тучные мотыльки разбивались о ветровое стекло. Боже, как прекрасен и древен мир, в котором нам выпало жить! Если бы не это битое стекло в канавах… Если бы не обрывки пластиковых пакетов… Если бы не мятые жестянки на обочинах…
Вечность.
Мы ныряли в быструю, поразительно прозрачную, ничем пока не загаженную Камчию. Прозаик П. бесстрашно вошел в воду по плечи, но все равно был виден до самых пяток, так прозрачна была вода. Веселии Соколов шумно бросился в воду с разбегу, ему кланялась трава, густо облепившая горбатый берег.
И все-таки даже в этом раю я наткнулся ногой на осколок бутылки.
— Ты терпи, — сказал Веселии. — Камчия — это река Андрея Германова. Пусть Андрея уже нет с нами, но ведь все реки Земли впадают в Стикс. Теперь ты и Андрей — кровные братья.
Я кивнул.
Я всегда сомневался в том, что самый древний плач человека — плач по женщине.
Да, конечно. «Пиши о любви. Любовь — это единственная стоящая вещь. Повторяй без конца — люблю. Расскажи им, Джексон, ради Бога, расскажи им о любви. Ни о чем другом не говори. Рассказывай все время повесть о любви. Это единственное, о чем стоит рассказывать. Деньги — ничто, преступление — ничто, и война — ничто. Все на свете — ничто, только и есть, что любовь».
Но все же самый древний плач человека — по дружбе.
И, слушая Веселина, глядя на огромные белые облака, как осадные башни катящиеся по выгоревшему шуменскому небу, уже предчувствуя дождь, так хорошо зашуршавший бы в сухих травах над Камчией, я плакал по людям, которых считал своими друзьями, которых мне посчастливилось знать или которые когда-то просто помогли мне стать самим собой.
Глядя на огромные облака, на выгоревшее небо, на прозрачную быструю реку Камчию, поросшую по берегам травой, я вместе с обрушившимся на нас дождем плакал об Андрее Германове, которого давно нет с нами. Поглаживая рукой мокрую содрогающуюся под струями дождя траву, я плакал по академику Дмитрию Ивановичу Щербакову, когда-то много-много лет назад в своем домашнем кабинете на Малой Якиманке подписавшему мне «Затерянный мир», потому что, черт побери, палеонтологию можно изучать не только по Давиташвили и Рёмеру. В потоках падающего дождя я видел Ивана Антоновича Ефремова, он рассказывал анекдот, но для меня это звучало президентской речью. И видел Ивана Ивановича Шмальгаузена, который когда-то, похоже, вполне искренне считал, что в свои шестнадцать лет я вполне разберусь в «Основах сравнительной анатомии». И видел пухлые пальцы Анны Андреевны Ахматовой с въевшимися в них кольцами. И видел знаменитого энтомолога Николая Николаевича Плавильщикова, первым объяснившего мне, что литература — это вовсе не обязательно то, что мы читаем. И видел грека Аргириса Митропулоса, бежавшего в Болгарию от черных полковников… И видел…
И все они умерли, умерли, умерли.
И я пишу не для них.
А для кого вообще пишет писатель?
Огромный наклонившийся над Камчией тополь весь порос странными узловатыми шишками, кора стоявшего рядом дуба лупилась. Прозрачная вода реки стремительно выбегала из-за поворота, будто торопясь посмотреть на нас, она стремительно завивала петли струй и водоворотов. Неутомимый язычник Ве-селин Соколов пел и плясал на травянистом берегу.