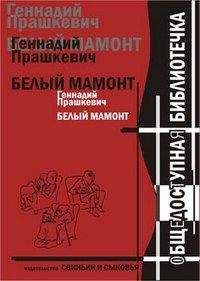«…дуй, ветер, дуй…»
Напилхушу задумался.
Он не знал, что такое парус, но видел, как раздулась парка.
Пусть вождь не вернулся, но какое-то время он летел. Если бы Люди льда догадалась держать вождя на веревке, может вытащили бы оттуда, куда улетел. Значит, решил Напилхушу, и тяжелое копье может быть летающим. Если к копью… Да не просто к копью, а к особенному, к Большому копью прикрепить легкий кожаный парус… И раздуть так сильно, как в видении порывом ветра раздуло парку вождя… И броситься на белого мамонта…
Новому вождю идея не понравилась.
«Смысл всего – добывание пищи, – мудро объяснил он. Ему страшно не нравилось, что многие дети походили на Напилхушу, на глупого, бьющегося в припадках. – Зачем парус, зачем Большое копье?»
И вызывающе спросил:
«Кто хочет охотиться на белого мамонта?»
Все промолчали.
Никто не нарушил тишину.
«А кто не хочет охотиться на белого мамонта?»
«Я…» – выдохнул тихий Тефт.
«Я…» – выдохнул трусливый Настишу.
«И я… И я…» – негромко зашелестело вокруг.
«Но как же тогда мечта? – спросил пораженный Напилхушу. – Люди льда много веков мечтают есть жирных холгутов. Были крысы, ловили каждую. Птицы воровали вяленую рыбу, мы отгоняли птиц. Земля тряслась, прятались в пещере. Дети мертвецов отгоняли олешков, мы нападали и убивали Детей мертвецов. У них волосы на лице, твердые копья. Люди льда не обрастают бородой. У нас лица круглые, чистые, а у Детей мертвецов бороды и усы. Приходит белый мамонт Шэли, затаптывает лучших охотников. Он не идет к Детям мертвецов. Он затаптывает Людей льда. Большое копье, оно как любовь, – от чудесного голоса Напилхушу многие девушки в темноте призывно стонали. – Оно дает мясо, оно дает жир… Оно исполняет мечту…Пища, конечно, важна, но мечта главнее…»
«Бросьте его в колодец, – приказал вождь. – И не давайте пищи».
В одном из глухих переходов открывался под ногами темный сухой колодец.
Люди трибы ходили там осторожно, поэтому на сырой глине стен запечатлелось множество отпечатков самых разных рук. В такой колодец бросили Напилхушу. Добрые женщины тайком подбрасывали куски вяленого мяса, пластинки сухого мухомора. Но было пусто, и кроме человеческого скелета ничего в колодце не нашлось. Время от времени Напилхушу жевал мухомор и мелодично стучал чужими берцами по каменным стенам.
«…когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…»
Было слышно, как в темной галерее по соседству по скользкому спуску известняковых плит с уханьем катается пещерный медведь. Грязную поверхность ноздреватых плит медведь, наверное, заездил до блеска. В кромешной темноте взбирался на самую верхотуру, фыркал от удовольствия, съезжал вниз. Он делал это снова и снова, и Напилхушу стал бояться, что однажды медведь съедет прямо к нему. Вот почему, когда вождь наклонился над колодцем и спросил: «Мечта или пища?» – Напилхушу скромно ответил: «Пища».
Девушки и женщины стонали от разочарования.
Проклятые суфражистки! Чтобы сдавшийся певец не мог приблизиться к их лежанкам, на всех подходах они тайком рассыпали сухую скорлупу дикого ореха и хрустящие раковины пещерных улиток.
К общему костру Напилхушу тоже не допускался.
«…и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он…»
А спал на голом полу, положив плешивую голову на спину древней черепахи, отмеченной ладонью какого-то допотопного художника.
Ушшу был.
Хаммату был.
Хутеллуш был.
Еще второй Тишуб был.
Второго Тишуба убили женщины.
Так незаметно убили, что если бы не вылезший язык и черное лицо, подумали бы – сам умер.
Прозвали Тишуба – Костяное лицо.
Очень твердое было у него лицо, удары его не портили.
Как раз стояли нежные дни. В тепле, пришедшем с юга, зеленые листья выросли до размеров ушей бурундука. Триба запаслась мясом и кореньями на всю зиму. Радуясь со всеми, Тишуб пел у костра. «Женщину хочу», – пел иносказательно. Опухший от переедания и мухомора вождь понимающе соглашался: «Хотеть не иметь».
«Чужую женщину хочу».
«Чужая женщина – ловушка для мужчины, – понимающе предупреждал вождь. – Чужая женщина это как ловушка для охотника, глубокий ров. Это как каменный нож, ударяющий в сердце. Чужая женщина – это как Старая падь, которую не каждый пройдет».
Старой падью звали угрюмое ущелье, прорезанное в скалах рекой. Известняковые склоны там были такие крутые, что зимой тяжелый снег почти не держался. Большим преступлением считалось говорить в Старой пади даже шепотом. Может, поэтому, рассердившись, вождь ударил Тишуба ладонью по голове.
Если бы по лицу – это ничего.
Но ударил по голове.
Тишуб хворал целое лето. А, отхворав, стал жалкий.
Все равно, дурак, пугливо пригибаясь, ходил за дочерью вождя, отслеживал все ее передвижения.
«…молился всерьез (впрочем, как вы и я) тряпкам, костям и пучку волос – все это пустою бабой звалось, но дурак ее звал Королевой Роз (впрочем, как вы и я)…»
Пугался, но ходил.
Вожделение водило Тишубом.
У него теперь были синие губы, как всякий певец, страдал всякой слабостью. Притаившись за темным углом, подолгу прислушивался.
Вот протопал старый Ухеа, потащил бивень для зачистки… Вот вскрикнула поганая летучая мышь… Вот ужасно захохотали косматые подружки, нежно прошлепала ножками младшая жена вождя… Если выскочить, думал Тишуб, неожиданно можно стать товарищем по жене…
Но понимал: лучше не выскакивать.
Терпеливо дожидался дочери вождя.
Но дочь вождя тоже ему не радовалась.
На второй или на третий раз прямо ударила Тишуба в костяное лицо бычьей челюстью, правда, не оставила царапин. У нее были толстые ноги и чувственные красные губы. Она всегда водила за собой трех косматых подружек. Родив горластого первенца от плечистого охотника Хутту, умевшего в одиночку поднимать камень, запиравший вход в пещеру, она заодно выкармливала и некоторых чужих детенышей. У нее было доброе нежное сердце и вкусное молоко. Могла обнимать мужчину всю ночь, это только Тишуба не хотела.
«…от моей юрты до твоей юрты горностая следы на снегу…»
Дочери вождя вообще не нравились хриплые голоса.
Любила драчунов. Сама любила подраться. По ее указанию косматые подружки часто колотили Тишуба в темных переходах. Подружки тоже были веселые. Иногда садились на Тишуба и подолгу ездили на нем, как на олешке. Как уздой схватывали костяное лицо ремнями, отводили в отдаленный грот, хихикая, насиловали. От всего этого Тишуб, вдобавок к слабости и синим губам, начал хромать и сильно кашлял. Волк откусил ему два пальца на левой руке. Стал этого стесняться, прятался от косматых подружек, но любовь к дочери вождя снова и снова выгоняла его к общему костру.