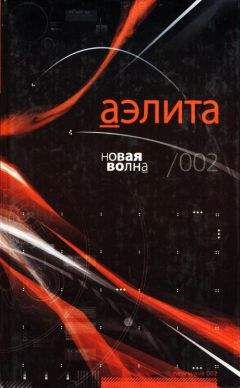— Ой, Ва-а-ня, а сперва такой был хра-абрый! Что же, так и будешь в штанах париться?
— Да я что, я ничего! — сказал Босоногов, чертыхаясь про себя. Нагнулся, снял кроссовок, затем другой, и уж после джинсы аккуратно повесил на гвоздик. Только тогда осмелился он обернуться.
Сухотиха стояла перед ним нагая. Спросила:
— Хороша ли я?
Да уж, Сухотиха была хороша! Неописуемо хороша! Атласная кожа, гордая шея, волна волос, как ночь, ямочки на щеках, высокие груди, и на левой — родимое пятнышко в виде звезды. И ниже, ниже — соблазн крутых бедер, и черный треугольник между ними, и длинные, блестящие в свете керосиновой лампы голени. У Босоногова аж челюсти свело при виде всего этого великолепия.
— Ах, Ваня, Ваня, — сказало великолепие, запрокидывая царственную голову. — Какой же ты еще теленок!
Не помня себя, потянулся Босоногов к ведьминым губам и опять ничего не поймал, кроме пустоты, а ведьма сказала сбоку:
— А теперь пожалуй на полок!
Страх исчез. Живо освободился Босоногов от остатков одежды и прыгнул на полок вверх крупом, и теплая волна окатила его с ног до головы, и сделался Босоногов мокрый.
Шипит квас, и шалой уголек прыгнул из каменки, чтобы тут же погаснуть, и мохнатая ночная бабочка бьется у окошка: тук-тук-тук. Лежит Босоногов, опустив отяжелевшую голову на руки, и огненные искры с липового веника текут по ногам, по спине и прочим босоноговским местам. И уже нет его, а есть кружение, кружение, мелькание чего-то с чем-то, жар и холод, верх и низ, право и лево сошлись, черная дыра, иная вселенная, музыка, музыка, музыка хрустальная. Не видит он, как Сухотиха, хохоча, обдает его из ушата ключевой водой, но чувствует: кожа слезла, и грудь взрывается, и ах… ах… до чего же здорово!
— Ну вот… — шепчет ведьма. — Теперь ты готов… теперь готов…
Все, что происходило далее, касается только Ивана и Сухотихи.
А Рейтману снится сон, и в его сне знакомая щель меж двух стен. Справа — кирпичная, флигельная, слева — деревянная, от сарая. В щели темно, прохладно, пыльно, паутинно. Под ногами песок с опилками. Над головой полоска неба. Сидит Рейтман в щели, поджав к подбородку исцарапанные коленки. Спрятался. Сжимает пистолет ржавый и без пистонов. Это для обороны, потому что соседка его — ведьма косматая. Вообще-то у Рейтманов две соседки по двору, две сестры-старухи, но одна, Фаина, неопасная и больше похожа на рыхлую фею. У крыльца Фаины слева в старой покрышке устроена цветочная клумба, а слева вросла в землю тяжелая двухпудовая гиря. А вот у Зои нет крыльца. И дверь у нее мерзкая, железная, как ее зубы. Глаз у Зои злой, космы седые, кожа коричневая. В руке кочерга. Надо Рейтману домой, очень надо, вот уж и мама зовет к ужину, но знает Рейтман: стережет его злая Зоя с кочергой за углом. И нет от нее спасенья, нет. Знает, что будет: выползет из-за угла черной тенью Зоя, а он тараканом в щель, а она его за ноги, и тут ему крышка. И каждый раз умирает Рейтман перед тем, как проснуться.
Вся штука в том, что мир ополчился против Рейтмана. Он как белая ворона. Его никто не любит, даже стены, кирпичная и деревянная вытолкнут его в лапы Зои, когда придет время. Это все из-за страха. Страх с Зоиной харей гложет маленького вундеркинда. И Рейтман платит миру той же монетой. Рейтман ненавидит мир, он бы исчез из этого мира, если бы мог. Но не сидеть же в самом деле в щели до Пришествия! Шевельнулся Рейтман, шевельнулся и прислушался. Тихо пока. Шажок, еще шажок. Выползает Рейтман из щели, оглядывается: тих-хо! Крадется вдоль кирпичной стены, а сердце бьется, как воробей в клетке! Вот и угол…
А за углом она, Зоя. Щелк железными зубами!
Бежит Рейтман обратно, к щели. Но даже воздух против него: густеет как кисель, обволакивает ноги, руки. А погоня все ближе, дышит в затылок. Шма-исроэль! И щель не спасет его. И вот ведьмины лапы хватают за щиколотки, и падает Рейтман на живот, плачет, умирает.
Проснулся Рейтман в липком поту и с лицом, мокрым от слез; проснулся, сел в растерзанной кровати, тяжело дыша. Еще не рассвело, тьма клубится в углах, а на потолке — лента лунного света между разошедшимися занавесками.
Забормотал:
— Да, да, это аутизм, я несчастен, боже, за что мне эти муки? Он жрет меня изнутри, и я знаю, как его зовут, но что же мне делать, что делать?
Лег в кровать, руку заложил за голову, но не спится Рейтману. Смотрит, раскрыв глаза, в черный потолок, и картины его жизни плывут перед ним.
Вот детсадовский двор, и на асфальте солнечная сыпь, и он, Рейтман, в шортиках, рубашечке, босоножках стоит столбом, а вокруг него на одной ножке скачет мальчик, и:
— Раз-два, третий жид — по веревочке бежит!
Люто ненавидит маленький вундеркинд послеобеденные прогулки, в частности потому, что знает: за это время ему обязательно захочется писать, а попроситься нельзя, потому что воспитательница злится, ведь ей надо оторваться от книжки и сводить вундеркинда в туалет. И терпит, терпит Рейтман до самого конца и виду не подает. Но еще больше ненавидит он тихий час, который превращается в вечность. Никогда не мог заснуть Рейтман в этот самый тихий час, и лежал он, отвернувшись к стенке, и изучал трещинки на ней.
Школа… Идет Рейтман, торопится, тяжелый ранец оттягивает плечи. На углу Сибирской и Талалихина его ждет растрепанный сорванец по кличке Вьюн. Он толкает маленького Рейтмана в грудь грубо:
— Здорово, Тормоз! Принес?
Рейтман кивает и достает из кармана рубль с портретом лысого дядьки.
— Молоток! Ну пошли, а то опоздаем!
В школе его прозвали Тормозом, хотя никакой Рейтман не тормоз, а, наоборот, круглый отличник. Ну не совсем круглый, потому что по труду и физкультуре у него вечная четверка. Позже, правда, кличка отклеилась, поскольку перевели Рейтмана из обычной школу в другую, с математическим уклоном, но и здесь неуютно вундеркинду. Когда пришло время и мальчики начали дружить с девочками, с Рейтманом никто дружить не захотел, разве что какая-нибудь девчонка пожалеет его и скажет:
— Бедненький…
А Рейтману чужая жалость как нож по сердцу. Чужая жалость — подтверждение его никчемности. Сам-то себя Рейтман готов жалеть бесконечно, собственно, он этим постоянно занимается, но принимать жалость от других… ни за что!
В армии Рейтман не служил, и хорошо, что не служил, а со школьной скамьи попал в физико-математический институт. Вот тут-то Рейтман наконец почувствовал себя более-менее. За ним утвердилась репутация немного сумасшедшего гения. Прыгнул Рейтман сразу на второй курс, а со второго — на четвертый, и там, на четвертом, начал он потихоньку подбираться не к чему-нибудь, а к общей теории поля. Дипломная его, кстати, так и называлась: «Критика теории относительности».