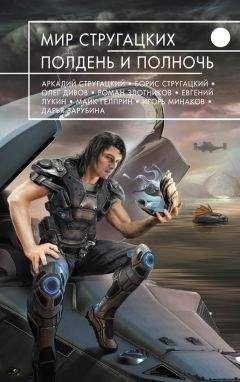– Закон никогда не наказывает ПРЕСТУПНИКА. Наказанию подвергается всего лишь тварь дрожащая – жалкая, перепуганная, раскаивающаяся, – возразил Г. А. – Они не преступники, а родители, они всего лишь хотят оставаться отцами и матерями.
– Ребенку не нужен хороший отец, – снисходительно парировал я. – Ребенку нужен хороший Учитель.
– Все существа метафизически состоят из мощи, мудрости и любви, поскольку они имеют бытие, и из немощи, неведения и ненависти, поскольку причастны небытию. Откуда? – Лицо Г. А. просветлело, он продолжил, не дожидаясь ответа. – Мы строим светлое будущее, возводим Город Солнца – неужели пара-тройка семей может обрушить строение? Пойдем со мной, Игорь, ты сам все поймешь.
Младенец заворочался у меня на руках. я увидел, что это прехорошенькая девочка с большими, внимательными ореховыми глазами.
– Вы ступайте, Георгий Анатольевич, а я её здесь подержу.
Учитель молча вернулся в здание. я попятился к автомобилям «Скорой помощи», избегая недоуменного взгляда Мишеля, сунул ребенка на руки первой встреченной медсестре. Откуда-то сверху уже доносился гул вертолетных лопастей.
В тот час никто и подумать не мог, что усыпляющий газ опасен. я понял, что натворил, когда стали выносить тела и «Скорые», включив сирены, помчались в городскую больницу. Четыре трупа – две женщины, школьник и проповедник – старинный пистолет у них все-таки был, и две пули в стволе нашлись. У выживших – нарушения речи, памяти. Г. А., казалось, отделался легче прочих, только слегка пошатывался при ходьбе. Но через полгода у него случился первый инсульт, ещё через год второй. Третий имеет все шансы добить Учителя. И за все это время мы не сказали друг другу ни единого слова.
Отставив недоеденную котлету, я резко встал – что-то холодное словно кольнуло мозг. В коридоре меня обогнала торопливая бригада. На этаже кипела свирепая суета. Ученики столпились у выхода, поминутно мешая врачам и сестрам. Иришка плакала взахлеб, как на похоронах. Странно, неуместно смотрелись детские слезы на стареющем личике. Зоя кусала пальцы, Аскольд сжимал кулаки, Кирилл тоже плакал. Мишель молчал. Ещё один человечек – маленький, толстый, неопрятный, с заискивающими ладошками и пронзительным взглядом – ходил из угла в угол, бормотал что-то на чужом языке, зажав под мышкой антикварный, распухший портфель. При виде его я шарахнулся.
Немыслимая невозможная надежда на миг поселилась в сердце – бывают же чудеса, самодельные, собранные руками! Когда колонна автомобилей повернула на Флору, нам казалось: остановить хищные вещи не легче, чем бронепоезд на полном ходу. Но пришла телефонограмма прямиком из Москвы, секретарша не поленилась оседлать мотоцикл, привезла им депешу, и враги безропотно откатились назад, растворились в редеющем утреннем тумане, в запахе волглых тряпок и подгорелой каши. В тот день рядом с нами тоже стоял смешной лысый, потирающий потные ладошки маленький человек. Он твердил как молитву: все обойдется, мальчики, все обойдется. Может, и сейчас?
– Нет! Нет! Нееееет! – забилась в крике Иришка, Мишель обнял её, пытаясь успокоить. По его лицу протянулись две влажные дорожки. Врач – тот самый, огромный, обволошенный – бормотал слова утешения и, похоже, сам чуть не плакал.
Я оперся о стену. «Не успел, – крутилось в голове, – не успел». я однажды предал учителя, предал, глядя ему в глаза. я поступил бы так же тысячу раз подряд – ради будущего, ради детей. Но учитель не говорил со мною, и я молчал. И теперь это уже не исправить.
Ученики по одному прошли к лифту. Ни один из бывших друзей не поднял глаза на Игоря К. Мытарина. Пыль рудничная, грязь манежная… Вдруг я почувствовал прикосновение потной ладошки, услышал вкрадчивый голос:
– Записка, мой славный. Последняя от него.
Листочек обыкновенной бумаги в клеточку. Расплывающийся дрожащий почерк.
…В истории было много случаев, когда ученики предавали своего учителя. Но что-то я не припомню случая, чтобы учитель предал своих учеников… Откуда? Прощай.
Подпись: Г. А. Носов.
Я не знаю – заслужил ли прощение.
Агата Бариста
Корхо чихел?
1
«…вернулся с обхода позже обычного – шёл медленно, почти вслепую, по тросу – откуда-то из ущелья налетела шальная апрельская метель. Прежде чем занести показания в журнал и отправить данные в Хургаб, пришлось отогреваться заранее приготовленным крепким чаем из термоса. Потом он переоделся, с простодушным удовольствием нырнув в белоснежный свитер с вереницей угловатых коричневых оленей на груди и спине, поужинал ячменной кашей, оставшейся с утра, вымыл тарелку и ложку, тщательно протёр стол – хотя в этом не было никакой необходимости, налил вторую кружку чая и перенёс её в бывшую фотолабораторию, в которой устроил подобие кабинета.
Как только он зашёл в комнату, то сразу увидел, что на старых осциллографах, складированных в углу за ненадобностью и накрытых домотканым полосатым пледом, восседает Вайнгартен, умерший от апоплексического удара три года назад в Мюнхене. Отчётливо скошенное на левую сторону лицо Вайнгартена было налито тёмной взбунтовавшейся кровью, глаза навыкате сумеречно тлели, слоновьи ноги широко раскинулись, чтоб было куда свисать необъятному брюху.
Они были одни, значит, Вайнгартен пришёл поговорить. Когда поблизости находился шугнанец Имомали, единственный работник, оставшийся на станции, Вайнгартен молча маячил то там, то здесь, но в переговоры не вступал. День назад Имомали отпросился навестить родственников и ещё до непогоды ушёл вниз, в Алтын-Кош.
– Корхо чихел? – раздалось из угла.
– Хуб. Здравствуй, Валя, – сказал Вечеровский, усаживаясь за рабочий стол, и подумал: «Может быть, сегодня». – Хочешь чаю? На кухне ещё остался.
– Издеваешься, сукин сын? – весело ответил Вайнгартен. – Ты мне ещё коньячку предложи.
Живой Вайнгартен никогда не позволил бы себе назвать его сукиным сыном. Именоваться сукиным сыном всегда было привилегией Малянова. Но теперь Вайнгартен, отбросив прежний пиетет, не стеснялся в выражениях, и Вечеровский испытывал странное удовлетворение по поводу этого факта.
– Коньячку я и сам бы не против. Но нету – закончился.
– Закончился, – эхом отозвался гость. – Как и всё в этой жизни, старик. Как и всё в этой жизни.
Тёмная туша в углу зашевелилась, заколыхалась, будто бы устраиваясь поудобнее. Вечеровский отхлебнул чай, придвинул поближе пепельницу, достал из ящика стола фланелевую салфетку, пучок разноцветных ершей и взял из сине-зелёной щербатой пиалы столетний бриар, ожидавший ежедневной чистки. Он выбил из трубки пепел, выкрутил мундштук и принялся неторопливо прочищать канал.