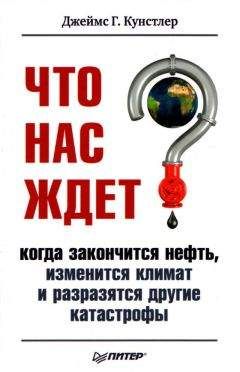Собственно кайф Илье был по барабану, но глюки давали возможность видеть Ленку.
«Если бы это и правда была война, — подумал Илья, — мне было бы за что сражаться».
Но сражаться надо было раньше. Просто мало кто знал, за что и с кем.
Плечо свело судорогой. Илья распрямился, осторожно покрутил шеей.
По направлению к баракам бежал живой факел. Пламя летело по ветру, как плащ.
Хорошо взялось, автоматически отметил про себя Илья.
Человек бежал отчего-то молча, словно огонь не доставлял ему ни малейшего неудобства. Через полминуты силуэт полностью растворился в песчаной взвеси, поднятой ветром. «Для тушения пожаров используют песок», подумалось глупо.
— Дурачок, — глухо, сквозь майку, закрывающую рот, произнес незаметно подошедший Вась-Вась, и Илья вздрогнул, подумав, что тот снова говорит о нем.
* * *
В темноте барака чувства притуплялись. В мозгу происходило короткое замыкание, и все начинало казаться обыденным, терпимым, почти нормальным.
— Зачем все должно быть так? — лениво сказал вслух Илья. — Фашизм-то сразу зачем? Можно же было и по-другому.
Вась-Вась не ответил — похоже, уже отрубился. С нар слева раздался смешок.
— Ты, видимо, не был очень религиозным человеком, да, Ил?
Даже после обратного смешения русские имена давались иностранцам тяжело. Илья привык к переиначиванию, не придирался и не поправлял.
— Вот именно, — сказал он, повернувшись на голос. Как звали мужика? Майк? Мик? — Вот именно, не был. Без меня меня женили, поговорка такая есть, знаешь?
— Я другую знаю. «Незнание закона не освобождает от ответственности», — невидимый сосед снова хмыкнул. — Слышал?
— Кончай трепаться, парни, — подал голос Вась-Вась. — Спать давайте.
— Не трынди, — сказал Илья Майку. — Это не мой закон. Я на царствие небесное не подписывался. Свобода воли где ваша хваленая?
Майк (или Марк?) хмыкнул:
— У меня сын восьмилетний, когда думает, что его несправедливо обижают, тоже заявляет: «А зачем вы меня родили? Я не просил!» Так и ты.
— А что ж ты его обижаешь-то несправедливо? — насмешливо спросил Илья.
Майк снова хмыкнул:
— Детей, судя по всему, у тебя тоже не было.
— Хорош языками чесать, — рыкнул кто-то. — Устроили клуб, тоже…
Но Майк уже тоже завелся:
— Ты, значит, весь в белом, ни на что не подписывался, ни в чем не виноват. Это другие пусть отдуваются, а ты ни при чем.
— Никто не должен отдуваться! — крикнул Илья. — Никто! Кому это надо, зачем? Дары растратили… Нефть высосали, катастрофа вселенская… Вон ее тут сколько, нефти. Из ниоткуда, из воздуха… Им же пальцами щелкнуть, все перезапустить; на кой этот цирк исправительно-трудовой?
Скрипнули нары. Голос Майка прозвучал приглушенно, как будто он с головой накрылся одеялом.
— А ты заяви протест, — сказал он апатично, внезапно утратив к разговору всякий интерес. — Как вон сегодняшний орел. Облейся да чиркни спичкой. Сразу поменяешь мировой порядок. Совесть народная, млять…
В мозгу снова перемкнуло. Все вернулось на круги своя. Дико, мерзко. Нельзя быть в белом с черными руками. А наши руки зачернели так, что их не отмоешь никаким мылом.
— Спи, Илюха, — негромко сказал Вась-Вась. — Чего ты? Живы будем — не помрем.
Илья кивнул, будто Вась-Вась мог его видеть. Рукой нашарил в кармане сверток, вытащил. Развернул. Положил в рот щепоть псилоцибиновой россыпи и начал жевать.
Унеси меня, волшебный гриб.
Это было нарушение неписаных правил: спорить о том, почему да как. Надрывать глотку и душу. Тратить остаток сил, переливать из пустого в порожнее.
Унеси меня.
Перед глазами затанцевал огонь. У огня были руки, и ноги, и неразличимое лицо. «Кому это надо? Зачем?» — с укором сказал Илья. Пламенные руки взлетели вверх, из сожженного горла вырвался хрип. «Sanctus, sanctus», — завел высокий чистый голос. Детский?
«Pleni sunt coeli et terra gloria tua». Живой факел вспыхнул с новой силой, заметался из стороны в сторону, обдал жаром. «Sa-a-a-anctus», — голос тянул звук все выше и выше, ad excelsis, бесконечно, невыносимо. Очищающий огонь, подумал Илья, чувствуя, как слезы сжимают горло, блажен грядущий во имя Господне.
Я не хочу. Я сюда не за этим. Я на это не подписывался.
Ленка. Ленка, ты где?
Голос смолк. Наступила темнота.
Не получилось, сказал себе Илья испуганно. Нет связи. Бэд-трип.
— Что-то случилось? — спросила Ленка. — Ты на себя не похож.
— Ты почему прячешься?
Сердце по-прежнему трепыхалось где-то в районе горла.
— Темно почему-то, — буднично объяснила Ленка. Голос у нее был немного усталым. — Как ты?
Что ей сказать?
— Никак, — это было почти правдой. — Живем, пашем. Плечо потянул сегодня.
Ему не нужен был свет, чтобы видеть ее лицо. Сиреневые глаза, тонкие брови, короткие светлые ресницы. Около рта усмешливые морщинки, на виске родинка. Летом на коже проступали еле заметные веснушки.
«Я без тебя волком вою», — хотел сказать Илья, но побоялся, что опять перехватит горло.
— Скучаю, — сказал он почти сухо.
— Скучаю, — эхом отозвалась Ленка.
Если во всем остальном еще можно было попытаться найти смысл и резон, то вот это было чистой и неоправданной жестокостью. Два в одном: унижение от сознания собственного ничтожества и тупая, изматывающая тоска по своим.
— Я найду способ, — пробормотал Илья, шалея от дурмана и болезненной, разъедающей нежности. — Как-то можно же попасть под перевод. К нам сегодня опять народ пригнали, двое из них, говорят, переброшены с ледников, с Полюса. Хорошо у вас тут, говорят. Тепло. Курорт!..
(Что бы он отдал за то, чтобы обнять ее по-настоящему!)
— Значит, перебрасывают, — он напряженно всмотрелся в темноту. — Осталось понять, как подсуетиться.
Он старался, чтобы его слова звучали оптимистично, обнадеживающе. Чтобы убедить Ленку и поверить самому. Когда в чудо верят двое, его вероятность удваивается.
— Я жду, Люшка, — сказала она тоненько. — Не надо суетиться. Надо потерпеть. Когда-нибудь все это закончится.
— Терпеть не в моем характере, — это было уже полной правдой. — Я с утра до вечера только и делаю, что терплю. Чувствую себя животным, понимаешь?
Она помолчала. Потом сказала нейтрально:
— Скоро розыгрыш.
— Вот уж на что мне никогда не придет в голову надеяться, — и это было правдой из правд.
Все труднее было сохранять фокус. Трип выходил из-под контроля. Ленкин голос становился гулким, где-то сбоку все громче журчала вода.
— Меня сейчас смоет, Ленка, — сказал Илья, улыбаясь в темноте. — Ангельские реки.