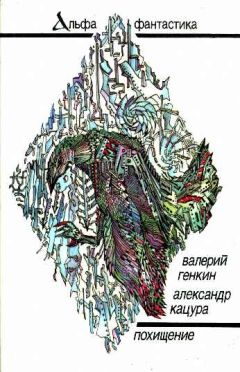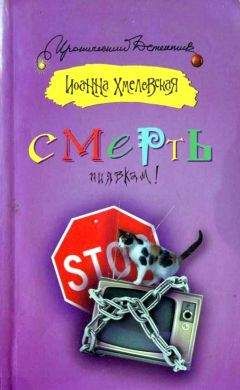На этот раз он вышел к дому довольно скоро. Вымпел на ржавом гвозде казался совсем бурым. Подкова болталась. Илья постучал. Еще раз. Дернул дверь. Косо прибитая доска не пускала. Он развернулся и яростно заколотил в дверь ногой. Отворилось окно.
Илья увидел знакомое сморщенное лицо карлика в кепочке.
— Тесу надумали взять?
— Мне… Александра Ардикеевича, — сказал Илья, запинаясь.
— Нету его. Никого нету, — ответил торговец стройматериалом.
— Но… как же…
— Съехали они, говорю, что господин Тардикка, что мадам его. Съехали.
Лицо уплыло в сумеречную глубину. Окно захлопнулось. Илья постоял с минуту, потом пошел назад.
— Ага, — сказал он, пройдя шагов сто, — стало быть, съехали. Понятно.
Когда Илья говорил «понятно», это означало у него довольно серьезную степень растерянности. «Хотел бы я знать, придет ли она», — бормотал он. Только сейчас он сообразил, что не знает ее имени. Она не назвалась, а он не спросил. Была надежда на вечер.
Но никто не пришел. Ветер с холодным шелестом обрывал листья на березе, луна восковым кругом повисла над поселком. Постепенно круг желтел, краснел, наливался бордовым. Илья ушел в дом. Сел за стол и решительно пододвинул кипу листков. Строки вновь обожгли его и повели далеко. Он дочитал до конца. Мысли разбегались. Доносились голоса. Где-то спорили. Нет, это убеждали его. Слышишь?
Ты знаешь свой путь. Следуй им. Ты должен отъединиться на время от всего внешнего. Отойти от жены. «Уже», — сказал Илья. От семьи. «Ее и не было». Забыть мелкие, низкие, личные хлопоты.
«Это трудно», — сказал он. И тогда глаза твои откроются. И ты будешь продвигаться шаг за шагом, ступень за ступенью — и открывать глаза другим. И засияют чистые окна. «Мне пришла в голову идея рассказа», — сказал Илья. Их придет еще немало. «О самоубийце. Я знал одного самоубийцу. Теперь я понимаю, почему он был не вправе это делать. Помню его слова. Его лицо. Но если не ты открывал окно — не тебе и закрывать. Мой, протирай, шлифуй стекла. Вот твоя задача. Так?» Никто не ответил. Было слышно, как за стенами бродит ветер. Илья уронил голову на стол и забылся.
Проснулся он от пения. Пели там, далеко. Нет, она не пришла.
А почему, собственно, должна была прийти? Хочешь, чтобы надиктовала тебе собрание сочинений? Да нет, не о том речь. Я уже, наверно, влюблен. Несомненно влюблен. Не знаю, как без нее дальше…
Господи, а как же путь отъединения?
Он вышел на крыльцо. Луна стала меньше, темно-красный цвет сменился бледной зеленью и серебром. Окна соседнего дома светились. Илья прислушался. Больше не пели, едва доносилась музыка. Оборвалась. Шум мотора. Голос. Ее голос. Захлебывающийся, раненый. Опять мотор. Голос все тише. Мотор умолкает вдали.
И тишина. «А-а-а!» — закричал Илья и кинулся к забору. «Нельзя через забор». Он ударил ногой по штакетинам. Секция послушно легла на землю. В три прыжка достиг он крыльца. Дернул дверь.
Не открывается. Дернул сильнее. Держит. Рванул яростно. Поддалась. Холодно и пусто. Лунный свет заливает комнаты. Илья не слышал ничего, кроме гула собственного сердца. Дважды обошел он оба этажа, спотыкаясь о рухлядь плетеные стулья, медные шандалы, связки книг, — пока не наткнулся на не замеченную ранее дверцу. Открыл. Зеленый луч сквозь драную соломенную штору освещал кресло-качалку. Александр Ардикеевич, господин Тардикка, сидел в кресле неподвижно. Плед сполз, зацепившись за колено. Лунная спица колола глаз. Старик улыбался.
— Куда вы дели ее, несчастный старик? — хрипло сказал Илья, хватаясь за подлокотник и резко поворачивая качалку.
Господин Тардикка с легким стуком упал на пол. Илья наклонился. Перед ним была восковая кукла. Чуть дальше, у стены стояла большая плетеная корзина. В ней лежало несколько скомканных платьев, одно — в драконах и лилиях…
В воскресенье приехала Ванда. Илья ей понравился. В его глазах, еще недавно встревоженных и больных, светилось отрешенное спокойствие, может быть, даже затаенная мудрость.
— Ах, — сказала она, — ты был прав. Здешний воздух тебе на пользу. А в Москве по тебе все скучают. Объявились твои друзья, звонят наперебой. Всем ты стал нужен.
— Не может быть, — сказал Илья.
— Да, да, звонят вовсю. Кстати, в этом доме напротив, — ты интересовался, — так вот, там лет пять никто не живет. Хозяин умер, наследники за границей, в Бирме, что ли. Или в Непале. А жил в нем — мне Наташа Артемьева рассказывала — один чудак. Художник. Картины его, правда, нигде не выставлялись. И делал он восковые фигуры. Зачем — никто не знал. Во всяком случае, он ничего не продавал.
— Восковые фигуры? — спросил Илья деланно ровным голосом.
— Да. И исчез он из своей московской квартиры при загадочных обстоятельствах.
— При каких же?
— Заперся дома и много дней не выходил. Когда взломали дверь, квартира оказалась пуста. Только окно в мастерской распахнуто настежь. В феврале. На восьмом этаже. И с тех пор никаких следов.
— Действительно, история, — сказал Илья.
— И еще Наташа рассказала, что в детстве, когда она приезжала сюда на лето, бабушка строго-настрого запрещала ей подходить к забору перед этим домом.
— Почему?
— Не знаю. Боялась чего-то.
— Понятно, — сказал Илья. — И Наташа никогда не нарушала запрет?
— Говорит, что нет.
— А тот художник, говоришь, исчез через окно?
— Неизвестно.
— Странная история. Впрочем, — усмехнулся Илья, — свое окно распахнуть может каждый. Даже обязан.
— О чем ты? — спросила Ванда.
Илья не ответил.
Сейчас я опять пребываю под знаком Водолея, это темный и влажный знак.
Герман Гессе
Эта история началась с одной случайной встречи.
— В тебе большая сила, — сказал ему тогда Федор. — Ты и сам не знаешь какая. Я тебе одно скажу: не лезь наверх. Это не твое.
Володя улыбнулся. О том, чтобы лезть наверх, он и не думал. А вот о другом, что теперь захватило его, он раньше не догадывался.
С Федором Свешниковым он столкнулся месяца два назад на опушке густого леса. Оба покосились на грибные трофеи друг друга и вдруг легко разговорились. Федор был могучего сложения человек около сорока, под высоченным, лысым до макушки, лбом горели карие глаза. Володя был лет на десять моложе, но они враз подружились. Он стал наведываться к Федору в деревенский дом, где тот жил совсем один.
В первый же приход Володи, когда стоял он у калитки под проливным дождем, держа над собой уже бесполезный зонтик, Федор сказал, спокойно улыбаясь: