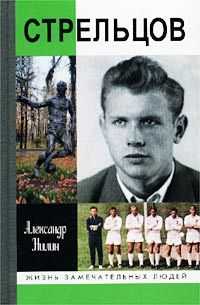— Зачем ты мне помешала?
Не хотелось с ним говорить, не было ни слов, ни желания, слишком близко от губ, на самом кончике языка, плясал вполне справедливый упрек, но нельзя было его произносить, чтобы не добить Хайо окончательно, а ее смысл и цель были — не добивать, а восстанавливать, лечить, воскрешать...
— Давай потом поговорим?
— О чем мне с тобой говорить? Ты... все из-за тебя с твоей самоуверенностью! Вообразила себя невесть кем, и ее... тоже... заразила.
— Хайо, перестань.
— Ты, кукла! Где было твое место?
— Хайо...
Она не знала, как вырваться, не ударив его, как уйти отсюда прочь, подальше от глупых и обидных слов, которые Хайо бросал ей в лицо. Он потом будет жалеть, конечно, он сейчас не отвечает за себя — да и кто бы отвечал на его-то месте, только что потеряв любимую, и зная, конечно же, зная, насколько в этом виноват сам, и знал не только он, знали все вокруг — а всего-то нужно было сделать три шага вперед и встать рядом, не впереди, а именно рядом, и прикрыть, защитить, не потому, что попросили — а потому, что просто можешь.
Никто его не просил защищать, и это, наверное, для Хайо было обиднее всего, и потому он остался позади, а теперь об этом помнил, и не мог забыть.
Рэни смотрела на него, в полыхающие болью и беспомощностью глаза, и понимала все, что творится с Хайо, и не могла ему помочь.
Он должен был сам все понять, все пережить и справиться с собой, и разобраться в себе, и только после этого можно было бы — говорить, объяснять, утешать; а сей час было рано, и Рэни это прекрасно знала. Слишком много она знала, знание давило на плечи.
— Отпусти меня, — сказала она. — Я хочу уйти.
— Плевать мне на твои желания!
— А ч-че это ты на дев-вушку орешь? — выговорил некто третий, кого ни Рэни, ни Хайо до сих пор не замечали.
Стоял этот некто у Рэни за спиной, от него омерзительно пахло — так, словно этот человек не мылся и не менял одежду месяц, судя по качающейся тени, на ногах он стоял еле-еле, а вот голос этот девушка прекрасно знала. Он остался там, в далеком прошлом, там, где был Грег и кафе, и прочие глупости, и, если доверять обонянию, то успел помереть, хорошенько разложиться, а потом восстать из могилы.
— О, — обрадовался невесть чему Хайо. — И этот тут. Твой старый дружок и верный защитник, во всей красе.
Рэни обернулась полюбоваться «красой» и опешила. Действительно, почти труп. Жить Сергею оставалось, она отлично это видела, дней пять, а может, неделю — но никак не больше. Он и раньше порой пил, но, кажется, с момента расставания не только пил ежечасно, но и подсел на все снадобья тенников, которые можно было достать в Городе.
— Что, не нравлюсь? — оскалился Сергей. Рэни не поверила своим глазам — молодой парень где-то растерял большую половину зубов. Если они у него не восстанавливались, значит — все, ресурс организма исчерпан подчистую. — А ты думал, все будет зашибись?
— Я тебя предупреждал.
— А разве не ты все устроил?
— Что он устроил? Что, Сергей? — как ни противно было прикасаться к вонючему типу в засаленной одежде, Рэни подергала его за руку.
— В-все! Чтоб и мы с тобой, и ты с Грегом... — качнувшись и дыша перегаром, сообщил Сергей. — А ты не знала? Во дура... Это ж все знают. Он в тебя поигр-рался...
Рэни перевела взгляд на Хайо, ожидая, что тот пошлет Сергея подальше, или хотя бы скажет, что все это бред. Хайо молчал, и хватка на плече ослабла, и каждая секунда заставляла Рэни понимать — да, все это правда, Сергей не врет, так все и было. Благодетель Хайо — не случайный прохожий, просто зашедший в кафе и решивший помочь ей выпутаться из трудностей. Он все знал заранее, и играл в какую-то странную игру с неведомыми целями.
— Хайо, это правда?
— Да. Ты же больная, такая же, как это дерьмо, — Смотритель подбородком указал на Сергея. — Вы же два сапога пара — если не пить, так висеть на ком-нибудь, и все бросать в эту топку, все, и свое, и чужое!..
Рэни сделала шаг назад, глядя на обоих мужчин. Потом посмотрела на Хайо, невменяемого, потерявшего все, не знающего, что еще делать со своей болью, кроме как — делиться с остальными, чтоб плохо было всем, не только ему. Почувствовала, что в его словах — много правоты, слишком много, чтобы отмахнуться от нее, как от бреда человека в истерике. Да, так все и было.
Сейчас она — равная Хайо, Смотритель и целитель — знала, о чем он говорит, и знала, что он прав. Она такой была. Бездной, бочкой Данаид, которую нельзя было заполнить до краев; она брала все хорошее, что было у Сергея, и использовала это, чтобы жить, чтобы держаться, как называла это; и выпила его до дна, досуха, как вампир. Осталась только прогнившая оболочка, и в том, что все так вышло, была их общая вина. Она пила — он с радостью подставлял горло, и огорчался, если она отказывалась пить.
До Сергея были и другие. Что с ними сейчас — нашли себе нового кровососа или тоже спились в хлам?
А кто же в этом раскладе Хайо, режиссер, который позволил всем троим сойтись, завязаться узлом, а потом разрубил его — по-живому, через кровь и плоть? Спаситель? Добровольный помощник? Вот результаты его помощи, его спектакля: один мертв, один вот-вот умрет, а она — жива и здорова, по-настоящему здорова, но сделал это не Хайо — это сделал Город, это сделала ночь в Башне, и пройденный ей путь по мосту над пропастью. Только сейчас она полностью поняла все, что с ней случилось, что с ней сделали другие и что она сделала с собой.
Потом она засмеялась — против своей воли, нельзя было этого делать, но никак не получалось удержаться.
— А ты сам-то кто? Ты, играющий в спасителя? Сначала топящий, а потом протягивающий руку, ты? Разве ты не бросил в свою игру все? И меня, и Грега, и Сережку, и даже Яру? Чем ты лучше меня?
Она смотрела Хайо в глаза. Ждала, пока он поймет услышанное. И он понял — опустил веки, зажмурился, потому что не мог ничего ответить, ибо все, что она сказала, было — правдой.
Рэни прошла мимо него, не оглядываясь, оставляя за спиной игрока и его жертву, двух мужчин, которым не могла ничем помочь, потому что — не хотела; потому что помогать можно только тем, кто просит о помощи, а насильно спасать никого нельзя, если не хочешь добить его окончательно.
Хайо дал ей отличный урок — вот только сам его, наверное, не понял, а если и понял, то слишком поздно.
Вайль бездумно шел по улице, на перекрестках подкидывая монетку и выбирая, куда свернуть, налево или направо. Вся огромная завеса, самая большая в Городе, вдруг стала для него тесной. Переплетения улиц и переулков, парки, скверы, дома из стекла, кирпича и камня — все это было теперь только оболочкой, скрывавшей под собой нечто большее, и нужно было проникнуть туда, под тонкую и почти невидимую пленку иллюзии. Подняться над схемой из домов и деревьев, дорог и озер, прикоснуться к сердцевине сущего.