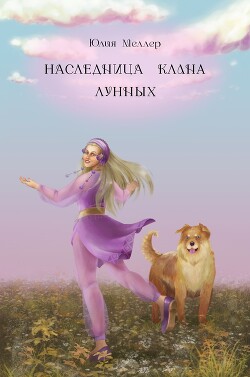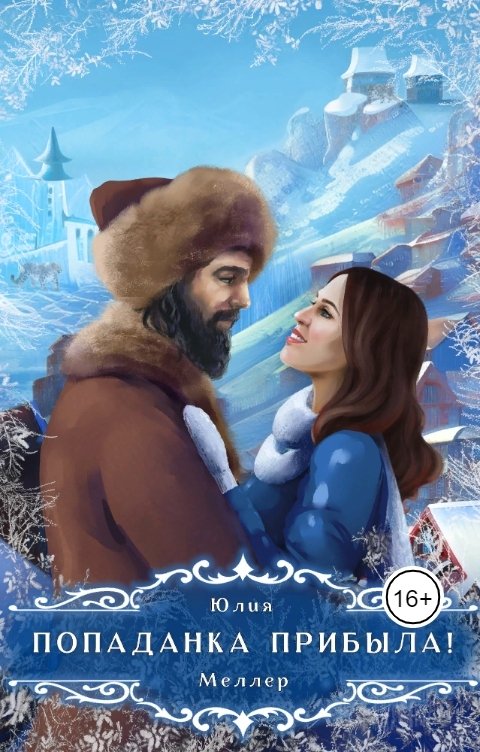Антонина и фыркала.
Ну, где там ум они приметили, если у неё всё в глазах расплывается, причем как зрительно, так и в мыслях.
Но в рассеянности сознания было спасение, потому что ощущать себя младенцем было
тоскливо, странно и… противоречиво.
Этот период остался в её памяти отрывками. Она запомнила ласковые руки и голос мамы, басовитое жужжание отца и грубоватый голос деда. Как бы Тоня ни пыталась сосредоточиться
и напомнить себе, что является младенцем только внешне, каждый раз таяла и испытывала
эйфорию при контакте с близкими. Она буквально погружалась в чистую, ничем не
замутненную радость и это было волшебно.
Мама, отец, дед часто брали свою кровиночку на руки и носили по дому, воркуя над ней.
Тоня от души дрыгала ножками и умилялась радостным возгласам взрослых. А ещё ей
нравилось касаться своими крохотными пальчиками лиц родных. Они от этого впадали в экстаз
и даже суровый дед восторженно лепетал всякие глупости.
Ещё были няньки и какие-то старухи. Их Тоня невзлюбила сразу. От них дурно пахло, но все
делали вид, что не замечают этого. Нянька постоянно дышала на маленькую Тонечку чесноком
или луком, а старухи воняли издалека. То ли они плохо следили за своей гигиеной, то ли дело
было в невозможности освежить одежду. Как бы то ни было, Тоня терпеть не могла, когда они
брали её на руки, но, признаться, делали они это не часто. Мама не любила этого, а сама Тоня в
таких случаях плакала и выкручивалась. В ответ на свой малышовый протест всегда слышала
осуждающее:
— Строптивица растет! Ишь, норов кажет. Ты, матушка-боярыня, поменьше балуй её, а то
пропадет девка через выкрутасы свои.
— За языком следи, а то отрезать можно! — изредка огрызалась мама.
— Ой, матушка, это я так… по бабьей дурости, — тут же отступала вредная старуха, но все
они умели очень хорошо притворяться.
Тоня никак не могла понять, зачем мать держит подле себя баб и старух. Она такая
молоденькая и ладная, а окружила себя стервятницами. Ну, ладно, толстая нянька. Она хоть и
дышит чесноком, но вовремя меняет описанные тряпки и ловко подмывает, а остальные…
Антонина вновь не успела додумать и потерялась в буднях, лишь изредка выплывая из
рассеянности и играя с родичами. В следующий раз она хорошо осознала себя на руках деда.
— Э, ягодка моя, отпусти-ка бороду! Дай своему деде свободы… — просил Тоню крепкий
старикан. Она из озорства наоборот крепче ухватилась и потянула его к себе, чтобы погладить
по щеке. Соскучилась. Очень соскучилась и не могла себе объяснить столь сильную
привязанность.
— Деда-а, — пролепетала вдобавок и, видя его радость, сама обрадовалась и неожиданно для
себя засмеялась.
— Ах, моя красавица! Умница и ладушка! Слышали? Знает, кто ей деда! А как заливается
смехом… Моя любимая кроха!
Потом были первые шажочки и выезд из Москвы. Другой терем*(раньше теремом называли
женский этаж, как правило, верхний), новые люди и свежий воздух. Только там Тоня поняла, насколько жарко и душно было в городском тереме. Понятно, что её боялись простудить, но
только перебравшись в деревню, она наконец-то, вздохнула полной грудью.
В дом Тоню приносили только ночевать, а все остальное время её выгуливали в саду, и если
бы не комары со слепнями, то счастью малышки не было бы предела.
Вся эта благодать сменилась возвращением в город и знакомой духотой. Мало того, что
терем топили днём и ночью, так ещё в одной горнице вместе с крохой спала нянька, а она мало
того, что храпела, так ещё зад её по ночам барствовал и трещал без умолку.
Но что она могла поделать? Возмутиться? Сказать? Ведь уже сносно лепетала! Но никто не
вслушивался в её слова. Говорит — и ладно! Тоне казалось, что она могла прочитать стихи и в
ответ на это слушатель только мотнул бы головой, отгоняя наваждение, и улыбнулся бы, как ни
в чём не бывало.
Но, конечно, дело было не только в невнимании к выходящим за рамки потребностям
малышки. Тоня уже поняла, что в тереме каждая женщина занимает определённое положение, и
сдвинуть её непросто. А все потому, что дед Тони — думный дьяк разрядного приказа! Над
Еремеем Дорониным стоит только боярин Кошкин-Захарьин и сам великий князь, а
остальные… Тут всё сложно.
Большинство бояр да князья, безусловно, выше по положению и зовут дедушку Еремейкой, а
кое-кто и пальцем грозит, но к ногтю прижать не смеют, как любого другого думного дьяка.
Вон как достаётся ото всех дьяку хлебного приказа! Вечно он виноватым выходит перед всеми, а Доронину поди скажи гадость, если он ведает делами всех служивых людей.
Но это пока Тонины догадки. Из подслушанных разговоров она сообразила, что Московское
княжество разрастается, и роль думных дьяков растёт. Раньше они были кем-то вроде
секретарей-помощников у думных бояр, а теперь они главы приказов, и уже бочком сидят в
думе, да что-то присоветовать могут.
Ну, да бог с княжеством! Тоня узнала, наконец, что её имя Евдокия! А то раньше ягодкой
звали, да радостью маминой, а теперь вот Дуняша чаще проскальзывать стало. А ещё она
познакомилась со своей старшей сестрой Марией! Машенька оказалась старше всего на пару
лет, но её уже сажали за работу, и пока малышка Дуняша тискала в ручках тряпочки, та крутила
веретено под присмотрим других женщин. А мама вновь была беременна: в семье ждали
мальчика.
Как только у мамы округлился животик, Дуня перестала быть центром внимания домочадцев
и дворни. Рядом с ней чаще всего оставалась Маша и её нянька. Дунина же толстуха только
продолжала ночевать рядом, а остальное время теперь крутилась возле мамы. Все ждали
наследника, и разговоры были только об этом.
Дуня приходила в ужас от того прессинга, что устраивали женщины своей молодой боярыне.
Они без конца капали ей на мозг, что роду необходим наследник, что без него худо, а вот она
родит и жизнь переменится, и не будет как в семье подьячего Никифорова…
В конце концов Дуня стала уводить Машу, слушавшую весь этот бред с широко раскрытыми
глазами. Они забирались в общую горницу и играли там, а если их гнали оттуда, то забегали на
кухню, усаживались в уголке и слушали незатейливую болтовню кухарки с дворовыми.
Бывало, что девочки выбирались во двор, забирались на поленницу и смотрели через забор
на улицу. Другим развлечением стало подглядывание за тем, как боевые холопы упражняются в
мастерстве, дворовые хлопочут по хозяйству, а девицы сплетничают. Иногда обе малышки
засыпали на своем посту, но просыпались уже в постелях. Машина нянька и остальная дворня
зорко приглядывали за крохотулечками.
Дуня впитывала все происходящее, как губка. Ей интересно было слушать чужие разговоры, смотреть на прохожих, помогать что-то делать. Для неё всё было ново. А ещё малышка
старалась больше говорить, и ответственная Маша поправляла её, когда та ошибалась. Девочки
всё время проводили вместе, а Машина нянька не возражала. Её приставили к Марии в качестве
наставницы, и она обучала девочку рукоделию. Потом ей досталась бы в ученицы Дуня, но раз
кроха уже пристроилась рядом, то женщина возражать не стала. Маленькая Евдокия не
доставляла никаких хлопот.
Но однажды весь двор Дорониных погрузился в траур.
Старшая сестра Мария обнимала Дуняшу за плечики и плакала вместе со всеми. Из
разговора Дуня поняла, что с беременностью мамы что-то пошло не так и боярыня потеряла
ребёнка. Теперь все затаились в ожидании, выживет ли она сама.
Этот период Дуняша запомнила надолго. Дед ходил хмурый и бросал фразы вроде того, что
он говорил, что невестка слабая и надо было родниться с другим родом. За эти слова Дуня
грозно смотрела на него и не давалась в руки. Дед кряхтел, ворчал и обиженный уходил в