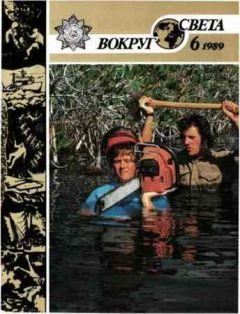– Пся крев!
– К тому же москалям, – усмехнулся бывший командир 1-й польской дивизии Казимир Румша. – Однако я думаю, лучше говорить про сибиряков, что несколько приятнее звучит для наших с тобою соотечественников. Ненавистно для них стало имя русское!
Польские жолнежи выехали из Сибири вслед за ненавистными им чехами, в июне прошлого года. В отличие от «братушек» они сумели вывезти в утробах морских транспортов множество различного имущества, прихваченного у бывшей родины. Вот только воспользоваться «непосильно нажитым» у новоявленных поляков не получилось, ведь недаром говорят русские, что попасть можно «из огня да в полымя» – а пламя большевистского нашествия гуще поднималось по всей Висле, от низовий и до верховий.
Дивизия попыталась лихим ударом отбить Варшаву, выполняя приказ Пилсудского, но сама попала в окружение и была почти полностью истреблена. Румша был тяжело ранен, но отлежался на одном из хуторов, встав же на ноги, примкнул к одному из повстанческих отрядов, что активно действовали по всей стране, несмотря на жестокий красный террор.
Таковы уж старинные шляхетские традиции в этой стране – бесконечные восстания против царизма превратили большинство поляков в потенциальных инсургентов. И враг для них был привычный, вековой, несмотря на любую окраску – что красные, что белые, – один черт, москали, которых нужно бить изо всех сил, дабы не мешали «Великой Польше» раскинуть свои пределы «от можа до можа».
Однако на этот раз русские действовали совсем иначе, чем раньше, сумев расколоть польский народ, и начавшаяся гражданская война велась с неведомой ранее запредельной жестокостью и злобой. Горели создаваемые по всей стране совдепы, коммунистов жгли живьем, распарывали им животы, из-за угла стреляли по красноармейцам юные гимназисты.
В ответ большевики ответили беспощадным террором, уничтожая повстанцев целыми селениями, а бессудные расстрелы в тюрьмах стали обыденным делом.
Села обложили продразверсткой, и зерно с мазовецких крестьян вышибал «наганом» лодзинский ткач – уже поляк пошел на поляка, взаимное ожесточение еще крепче завязывало кровавый узел междоусобицы…
– Смотри, пан Казимир, какое багряное солнце!
Огненный диск медленно поднимался над горизонтом, но в отблесках света Румша увидел кровь и невольно поежился, но тут же взял себя в руки – негоже офицеру проявлять подобную слабость – и ответил бывшему командующему, гордо вскинув подбородок:
– Кровавое светило, пан Валериан, предвещает смерть тирану! И новый рассвет сегодня всходит над Польшей!
– Надеюсь на это, полковник, крепко надеюсь, всем сердцем! Дзержинский сегодня должен быть убит, тогда поднять на восстание наших же бывших солдат будет легко. Захватив Варшаву, мы дадим сигнал всей Польше, а пролитая в борьбе кровь еще больше скрепит наши ряды! И так будет, в этом наша сила!
Казимир Румша, бывший офицер Генерального штаба Российской императорской армии, а ныне полковник Войска Польского, взявший на себя убийство главы новоявленной ПСР, без иронической улыбки выслушал страстный призыв.
Раньше он бы не поверил ни на грош, но новые времена принесли совсем иное отношение к жизни и смерти – слишком много крови пролилось за такие слова. Что ж – погибнуть за историческую родину дело святое, даже долг солдата, а потому он ответил совершенно спокойно:
– Дзержинский будет убит, пан полковник, можете не беспокоиться! И не упустите момент, тогда наша гибель не станет напрасной…
– Хана!
Русское слово вырвалось у Гудериана непроизвольно, опережая мысли, которые неторопливо ползли в гудящей как набатный колокол голове, разрывающейся на части. Только сейчас Хайнц полностью осознал, какое жуткое значение скрывалось в этих четырех буквах.
Тут привычный «капут» или иное немецкое ругательство, даже поминающее свиную задницу, смотрелось блекло. И никак не могло выразить всю красочную палитру обуревавших его душу скорбных чувств. Действительно «хана», хотя есть еще более выразительное матерное словосочетание, которое он до сих пор не мог правильно произнести.
В корму маленького «Рено» попал снаряд полевой пушки, скорее всего болванка, ибо взрыва не было, хотя от удара пошел такой звон, что у Хайнца из ушей потекла кровь – контузило изрядно, до потери слуха.
Танк вздрогнул всем корпусом и, как показалось майору, подскочил на месте и чуть не перевернулся. Выскочившие языки пламени опалили пятую точку, промасленные брюки моментально загорелись – от жуткой боли офицер взвыл во весь голос и окончательно пришел в себя:
– Горим! Ганс, открывай люк!
Гудериан сильно толкнул в спину механика-водителя, молодого и вечно улыбчивого баварца, но тот от толчка сразу завалился на бок безвольной куклой. Слишком много за последние годы офицер видел смерть во всех ее страшных обличьях, а потому мгновенно понял, что парень мертв и больше не услышит его голос.
«Сгорю ведь!!! – Мысль снова пришла с болью – Хайнц захлопал себя по заднице, ощущая жар на ладонях. – Хорошо, что сыновья есть! Если вылезу, то с запекшимися «висюльками». Для кухни каннибалов, может быть, и хорошо, для меня не очень!»
Задыхавшийся от едкого дыма майор, ничего не видевший в густой пелене, несмотря на весь трагизм ситуации, не удержался от нервного смешка. Но плоть его страстно желала жить, а пальцы сами по себе, не ощущая сильнейшего жара и боли, откинули защелку и толкнули толстые, в два сантиметра, стальные створки.
Хайнц рванулся вперед, протиснувшись над телом убитого камерада, туда, где был живительный воздух и жизнь, не обращая внимания на громкий перестук пуль, жалящих танковую броню.
– А-а!!!
Гудериан высунул наружу тело по грудь, глотнул всем ртом, будто вытащенная на берег рыба. Одного вздоха хватило, чтобы майор пришел в себя. Сзади сильно припекало, и, рыча от жара, Хайнц попытался одним рывком вырваться из пылающей машины.
Но не тут-то было – ноги за что-то уцепились, их сильно сдавило, словно стальная гробница не желала расстаться с ним и отпустить вторую жертву, что прежде мнила себя хозяином.
– Спасите!
Пламя уже облизывало живую человеческую плоть, и майор обезумел от боли, срывая горло отчаянным криком, почти ничего не видя выпученными глазами. Он взывал всем своим естеством к всевышнему, ибо на людскую помощь уже не надеялся.
– Майн готт!!!
– Пся крев!
Дзержинский смотрел ненавидящим взглядом на пустынные улицы города, ежась от утренней прохлады. За прошедшие два месяца глава Польской советской республики и начальник ВЧК совершенно измотался. Дела нарастали лавинообразно, времени на отдых совершенно не оставалось, а главное, Феликс Эдмундович уже не знал, как повернуть ситуацию в свою пользу: привычные методы не срабатывали, а прибегнуть к чему-либо другому не было ни желания, ни сил. Оставалось только ругаться, ощущая в своем всесилии полную слабость.
– Черт бы вас всех побрал!
С такой стойкой ненавистью Дзержинский еще не встречался и порой с тоскою вспоминал Москву, где спокойно и без всякой охраны мог ездить по городу, не боясь покушений на свою жизнь. В Первопрестольной к нему относились с животным, нескрываемым страхом. Русские белогвардейцы и эсеровская сволочь сразу же прочувствовали на своей шкуре, что с ними миндальничать не будут.
Особенно после покушения на Ленина – красный террор прошелся по всем российским городам и весям, уничтожая всякую заразу, и уцелевшие боевики забыли про бомбы и пистолеты, прекрасно понимая, что за убийство одного наркома в ответ перестреляют без всякой жалости многие тысячи заложников.
Поняли, что большевики не страдают слюнявым либерализмом, и притихли, боясь не то чтобы выстрелить, слово сказать открыто. Вот потому-то он спокойно ездил по Москве, а на предложения брать с собою охрану уверенно отвечал: «Пся крев! Не посмеют!»
Но здесь, в Польше, он уже, как один русский царь, пережил семь покушений. И кто только в него не стрелял – от безусого гимназиста до истеричной барышни, а один старый офицер даже бросил гранату. Хорошо, что силенок не хватило, мощным взрывом раскромсало подвернувшихся на мостовой случайных обывателей.
Ответные меры не устрашили безумцев, казнь сотен заложников не остановила покушения – аресты террористов шли постоянно, а в крепости все камеры были битком набиты, несмотря на то что ревтрибуналы работали без сна и отдыха и регулярно проводили «чистку».
– Гидра! Нужно не просто рубить ей головы, но и прижигать их огнем, каленым железом!
Дзержинский скривил губы, чувствуя, как опаляет душу стойкая и непримиримая ненависть. Теперь Феликс Эдмундович знал, что только пролетарский интернационализм может покончить с панским национализмом. Неделю назад он отдал нужные распоряжения – скоро поляков начнут изгонять с бывших немецких территорий, за них примутся с превеликой охотой другие соседи, испытавшие на своей шкуре гнет шляхты, – пробуждение белорусов, украинцев, словаков и чехов уже началось, и ничто не остановит их праведную месть.